Алексей Радов
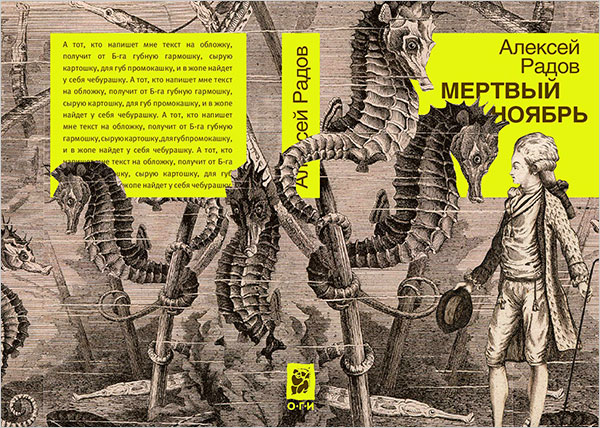
Ноябрь Наблюдателя
***
(Была ночь и было холодно, и я спал...)
Была ночь и было холодно, и я спал. И райские птицы жили над моей кроватью и пели мне песни. И я видел сон. И сон видел меня. Хорошо. Степь и ветер, песок в глаза, кристальная реальность, воздух, который, кажется, можно есть, такой он плотный и живой. Там были люди. Их было немного, но они были красивы. У них были живые лица и раскаленные тела. На них были надеты только набедренные повязки, даже на девушках. Девушки снимали их по желанию. Потом я проснулся. Было утро, шел снег. Это зима. Я проснулся, выпил чаю, без сахара, но с лимоном, и пошел в институт. Снег падал мне на веки, пока я шел, и нежно щекотал их. Когда я останавливался, чтобы прикурить, снег переставал падать. Это парадокс. Когда вошел в институт, где тоже было холодно, было без двадцати девять. Я опаздывал. Тут я встретил знакомую, Лиду. "Привет, мужик, - сказала она. - Хочешь, я отсосу у тебя?". Я вежливо отказался от орального секса. Секс меня вообще не очень интересует, но по утрам особенно. "Ладно, мужик, тогда - пока", - сказала знакомая. Я вошел в аудиторию еще десять минут спустя. Это большая аудитория с гипсовыми бюстами героев ушедших столетий и рядами длинных однообразных скамей с бюстами героев дней сегодняшних. Когда я вошел, лектор как раз говорил: "Особенности бихейвиористского подхода в когнитивной флактологии можно условно разделить на два..." - Я сел и тупо посмотрел на лектора. - "Первый - и это надо записать - состоит в поиске дистрибутивных диспозиций индивида", - я заглянул в свой портфель. Ручки там не было. Записывать было нечем. Зато в портфеле оказалось полбутылки каберне, я достал и сделал большой глоток - "...главное во втором подходе - не пытаться применить эмпирически обоснованные данные на себе. Это крайне важно..." - Лектор потер ладонью живот и снял очки.
Задумался. "На чем мы остановились?" Я достал из портфеля книгу и стал читать. "Вскоре затем поступил донос на Палланта и Бурра с обвинением в заговоре с целью передать верховную власть Корнелию Сулле, принадлежавшему к именитому роду и состоявшему в свойстве с Клавдием, которому он, вступив в брак с Антонией, приходился зятем", - сообщал автор. Что за бред, подумал я. Эту книгу я читал уже третий год с большими перерывами. Смысл стал давно мне неясен. Я перелистнул немного назад. "Была поздняя ночь, и у Нерона все еще пили...", - прочел я. И эти пьют! А еще древние греки! Я глотнул из бутылки - "когда к нему входит Парид..." - и т.д. Я почитал еще минут пятнадцать и отложил книгу. Научную литературу долго читать нельзя, не то сам, лет через сорок, будешь писать подобное. Я посмотрел на лектора. Он - на меня.
- Молодой человек, вот, на последней парте, не подскажете, что такое "политика" с точки зрения Монтескье? - спросил он.
- Не знаю, - сказал я лениво.
- Ага. Ладно, - сказал лектор.
Тут я заметил, что лектора никто не слушает. Часть студентов спала, часть смотрела по сторонам и друг на друга, кто-то записывал, но лектора никто не слушал. Никто. Мне стало его жалко.
- Политика, по Монтескье, есть климат, почва и состояние земной поверхности, которые, в свою очередь, определяют дух народа и характер общественного развития. Важнейшей детерминантой учения Шарля Луи Монтескье является отрицание учения Фомы Аквинского, - сказал я, - это он в "Письмах к господу богу" написал.
- "Письма к господу богу"? Позвольте, но у Монтескье нет такого произведения...
- Значит, это мольеровские. Я их путаю часто. На "М" оба. Как мудаки.
- Ага, - сказал лектор - мудаки, точно. - И вышел из аудитории в слезах.
Я сделал последний остававшийся мне глоток и углубился в размышления. Я очень люблю думать. Особенно ночью, когда времени много. Я думаю, я мечтаю, это бесполезно, но такова моя натура. Итак, я думаю: "2020 год. Я на работе. Я работаю в крематории. Это особый крематорий - здесь сжигают не мертвых, а живых. Ведь после того, как людей стало слишком много, была объявлена программа всеобщей добровольной утилизации. ВДУ, сокращенно. Целый день ко мне приходит люди. Старые, молодые, красивые, нет, пидорасы, все кто угодно. Заходят в печь и сгорают там. Я знаю, что после того, как не станет никого, я сам войду в печь и сожгу себя. Последним. Это потому, что уже после первых добровольных сожжений появилась новая религия, физанство. Ее основал Физ. Джин Физ". Тут лектор вернулся и, извинившись, продолжил лекцию. За окном шел снег. Я стал разглядывать своих однокурсников и однокурсниц, от нечего делать. Боже (хоть тебя и нет), зачем ты создал столько идиотов? Из чего лепил ты уродливые лица? Эти лишенные всякой эстетики фигуры. Эти... Тебе, Бог, материала, что ли, не хватило? Вот рядом со мной сидит вроде как девушка. Весит, наверное, центнер. Лицо не то что не выражает проблеска разума, оно вообще еще не проснулось. И никогда не проснется. Эти волосатые ноги, эти жировые складки, это запах немытого тела! Разве может кто-либо возжелать такую? Может. И я знаю кто. Он сидит рядом и своими маленькими ручонками теребит ее немытые волосы. Тьфу. Лектор, и тот приличнее выглядит. "...итак, переходим к главной теме сегодняшней лекции. Запишите: "Художественная вивисекция как метод когнитивной науки". Записали? Ага. Итак...", - до меня донесся голос лектора. Я снова углубился в думы. "К крематорию уже с утра очередь. Эти жаждут смерти. Ведь тогда их дети получат 300 грамм хлеба и 250 - водки. И смогут хоть один день не есть траву. Я иду мимо очереди. Сразу видно, кто как живет. Этот питается только травой, причем худшего качества. Сам, поди, ездит за город, собирать. Браконьер. Жрет, наверное, сырую. А эта пизда стоит одной из первых, небось, с утра пришла. Поддалась на псевдопатриотические призывы Всемирного Правительства. Лицо вовсе не зеленое, нет мешков под глазами. Небось, спит не просто на помойке, а в каком-нибудь полуразрушенном подвале, чудом уцелевшем после второй ядерной войны. Я прохожу мимо очереди, где одни стоят ради куска хлеба для детей, другие - хорошо обработаны электронной пропагандой, третьих привели насильно - это воры, убийцы и прочие криминальные элементы, кое-кто пришел просто из чувства солидарности с большинством. Я бросаю последний взгляд на крайне красивое лицо солидной дамы, с не зеленым лицом, и вхожу в здание. Рабочий день начался". "На сегодня все, до свиданья, лекция закончилась", - объявил лектор. Студенты ломанулись к выходу. Гурьбой. Меня лектор задержал у двери и сказал:
- Вы. Вот Вы. Вели себя сегодня просто недостойно.
- Извините, - сказал я, - в будущем буду вести себя намного более достойно.
- Вам хотя бы стыдно?
- Ага, страшно стыдно.
- Вас гнетет чувство стыда и ответственности за срыв (не боюсь этого слова - "Срыв"!) лекции.
- Да. Гнетет.
- Идите, - сказал лектор, - и молитесь за меня!
- Лады. Сегодня же поставлю свечку. Или палку. Брошу, - сказал я и пошел прочь.
Я шел и думал, что неплохо бы еще выпить, и поскольку между лекциями был перерыв, решил предаться алкоголизму. Но не тут-то было.
Революция
- Эй! Вы, с глазами, нарисованными на внешней стороне век, с венами, натертыми наждачной бумагой, с не тронутыми временем лицами, с искусственными хуями! Вы, с омертвелыми душами! С эмоциями, контролируемыми разумом! С сердцем в общепринятой для его обозначения форме жопы! Вы, отнявшие у своих детей будущее, а у своих отцов прошлое! Потерявшие совесть и не знающие о долге! Вы, вы, все вместе, бойтесь: мы идем!
Так говорил Мальтус, потрясая кулаками, гневно смотря в воображаемое небо, на самом деле - в потолок маленькой комнатки на окраине большого города, в потолок, весь в разводах от сырости, в паутине ныне живущих и давно умерших пауков. "Мальтус" - это кличка. Как и у всех. Клички не имел лишь я, но меня редко замечали.
- Мы должны прийти. Наше время. Мы долго ждали за кулисами, теперь наш выход. Как 15 маленьких джинов, мы выйдем из наших бутылок, хотя всю жизнь в них лезли. Нас мало. Но достаточно, что поднять общее возмущение. Достаточно, чтобы кто-то смог умереть за идею. Да-да, - Мальтус внимательно обвел собравшихся взглядом и продолжил. - Да! Пора проснуться. Завтра! Завтра я скажу вам доброе утро. Все помнят? Да?
Тут все, кто был в комнате, заговорили разом и быстро, перебивая друг друга, лишь я молчал. В итоге выделился один голос. Он покрыл, съел, как бы, остальных своим авторитетом. "Плохой бог", звали мы его. Или "пло-бо". Пло-бо был нашим лидером до появления Мальтуса. Он сказал:
- Я не сплю уже два года. Почти не сплю. А когда удается немного поспать, я вижу не сны, а их отражение, отражение в чьей-то воде. Сны получаются размытыми и вроде постаревшими. Вторичные сны. Но этой ночью я видел настоящий, живой сон. Я, кажется, умер и ищу место, где мне скажут, куда идти: к плохим, хорошим или в баню. Это место почему-то находится там, где наш с вами любимый бар. Я захожу, и ты, Мальтус, ага, ты, начинаешь считать мои прегрешения и наоборот, как их? Не помню. Ну, когда хорошо кому-то делаешь, в общем. И отправляешь меня в рай в итоге. А я не иду, я говорю, что мне завтра революцию делать. Обязательно. Ты говоришь, что можешь меня отпустить на один день, но тогда я попаду в ад. Я соглашаюсь, выхожу из бара, воскресаю, просыпаюсь, - Пло-бо помолчал. Потом добавил тихо:
- Ради тех, кто уже не с нами и завтра не увидит смерти Системы. Мы помним их имена. Ради наших уже умерших и еще не родившихся детей. Сотворим историю! Смерть Системе! Смерть Управлению!
"Смерть, смерть Управлению!!!" - закричали все.
"Смерть оному", - подумал я. Сидевший справа от меня совершенно лысый старый человек кричал громче всех. Потом все смолкли, и он заговорил.
- Я жил. Как все. Сорок восемь лет. Я работал на Систему, я женился на тупой домохозяйке. Я воспитал своих детей в духе лжи. Сорок восемь лет, - промычал он. Заплакал.
- Завтра ты искупишь свою вину, - сказал Мальтус. - Завтра. Мы все в чем-то виноваты. Мы все были иногда конформны. Мы давали себя убедить и заставить молчать. Но завтра мы сделаем то, что послезавтра сотворит из нас легенды. Мы будем выглядеть абсолютно непогрешимыми, святыми. Мы будем стоять у истоков, если хотите, расы. Новой социокультурной общности, - после этих слов Мальтус подошел к лысому и обнял его. - Ну же, мужик, спокойно: цель близка!
- Я знаю, - лысый еще всхлипывал. - Да, я знаю. Время пришло, - лысый вдруг возбудился и пнул ни в чем не повинную табуретку. Вскочил. - Сорок восемь лет время только уходило от меня. Сочилось сквозь пальцы, как сухой песок. Но теперь оно пришло. Судьба встала к нам раком. Надо пользоваться. Ура.
"Ура-ура", - сказали все. Повисла тишина.
- Итак, уточним, - сказал Мальтус. - Главная Площадь, 9.00. Ты, - он ткнул в лысого, - и вы двое подходите к главной двери Управления. Входите, пропуска готовы. Ив. Мих. встречает вас после проходной. Да, Ив. Мих.?
Ив. Мих., молчавший доселе, кивнул и начал говорить:
- Да. Никто ничего не заподозрит. Вы - пришли на процедуру ре-вербовки. - Мы проходим ко мне в кабинет, берем автоматы. Спускаемся к черному входу. Там встречаем группу №2...
- Ага. Я помню, - вдруг сказал молодой, но уже седеющий человек, сидевший напротив меня. - Мы прорываемся по винтовой лестнице и захватываем Главу Управления. Охраны не будет, да?
- Не будет, - подтвердил Мальтус. - Екатерина как раз будет у него, и он отпустит охрану.
- Ладно, - сказал тот, кто сидел напротив меня. - Нам надо готовиться. Тренироваться. Мы пойдем?
- Идите, - сказал Мальтус. - Идите.
Пятеро встали и, обнявшись со всеми, кроме меня, вышли.
- Мы победим, - сказал один из них на прощание.
- Победим! Победим!
Воцарилась тишина. Все прорабатывали в голове завтрашний день, представляли, как они, невыспавшиеся, с бьющимися сердцами, чуть дрожащие, то ли от утреннего холодка, то ли от нервного возбуждения, будут драться, умирать, передавать привет зарождающемуся Новому Утру. Новой Жизни.
- Я тоже пойду, - сказала Екатерина. - Мне надо Ему позвонить, - она вышла.
Екатерина уже месяц спала с Самым Главным, это и было главной составной нашего плана, нашей возможности уничтожения этой заевшейся, зарвавшейся управленческой Системы.
- Мы. Мы... Мы, - начал лысый. - Черт. Нечего сказать. Мы столько сказали друг другу за последнее время, что я хочу сказать, а нечего. Я могу лишь кричать.
- Завтра. Завтра, - сказал Мальтус. - Вдоволь накричишься. За все свои сорок восемь лет. Вам пора.
- Конечно, - сказал лысый. - Надо еще поспать. Постараться. Группа один - за мной! - И пошел к двери.
Еще двое встали и пошли за ним.
- Победа! Новое Утро!
- Победа! Мы победим!
Опять все прощались, обнимались, подбадривали друг друга, не замечая лишь меня.
Некая часть меня, автора этого рассказа, вдруг проснулась. Привет, говорит, я - Мован, твой друг детства. Здорово. "Ты как-то скучно пишешь. Ты вроде как хочешь написать что-нибудь о революции, о борьбе с Системой, но у тебя не получается. Зачем же ты пишешь об этом? Не лучше ли создавать сказки для самых маленьких?" - спросил Мован. "Я пишу этот рассказ, так как понял, что мне хочется что-то и кого-то изменить. Мне всегда раньше было похуй, слушает кто-то меня или нет. Знаешь, только слепой Гомер мог петь просто так. С Гесиодом - та же хуйня. Или с Геосиодом. С Геолиосом". "Так тебе нужна слава, признание, поклонницы с потными письками, народ, кричащий твое имя?", - усмехнулся Мован. "Ты что. Нет, конечно. Но мне надо, чтобы то, что я пишу, кто-либо использовал, хотя бы в качестве туалетной бумаги". "Даа? Ты же их всех уродами называешь и похлеще там. Ты же мизантроп, интроверт, человеконенавистник!" "Да. Я часто думаю, кто наплодил столько уродов? Вроде рождаются такие же как я. Голенькие. А потом надевают, надевают, надевают, пока не падают под тяжестью надетого. Но мне хочется, что был кто-то, кто бы хотел развиться. Чтобы было немного людей, которым бы понравилось, что я делаю, но чтобы я их уважал, чтобы мне не стыдно было с ними выпить". "Ути-ути. Мне хочется, мне не хочется", - передразнил меня Мован. - "Совсем самоиронию потерял за всеми этими революционными телегами. И вообще. Немного людей, много людей, да пошли они на хуй! Пусть и дальше сосут друг у друга. И у Системы. Если она есть, конечно". "Ну хорошо. Пишу, так как пишется. Не писалось бы - не писал. Логично?" "Ага. Тавтологично, - сказал Мован. - Тебе тяжело же писать". "А это потому что у меня сюжет есть. Когда есть сюжет, быстрее пишется". "И какой сюжет? Наверное, оригинальный охуенно?" "Наверное, - сказал я. - А вообще мне тяжело пишется, потому что это важно. Я могу привести аналогию, она тебя убедит, проиллюстрирует все хорошо, но она противная какая-то". "Про говно, что ли, - спросил Мован. - Знаю я твою аналогию, можешь не рассказывать. И сюжет знаю. Все кончится тем, что этот, самый пламенный, как его там, Мальтус, всех их предаст. Он окажется работником Системы. И все помрут, поди...". "Да, вообще-то, - согласился я. - А про помрут ты откуда взял? Я про это еще не придумал". "А у тебя всегда все умирают. Не можешь иначе. Шекспир хуев...". "Ладно, я дальше писать буду, пока сюжет не забыл совсем". "Пиши, пиши. Я посплю пока", - с этими словами Мован, моя часть, лег на один из мозговых аксонов и через минуту уже храпел. Я вернулся за стол.
- Не спи, еб ты! Все проспишь.
Я открыл один глаз и увидел Мальтуса. Открыл второй - Мальтус был и в нем. Он тряс меня.
Я огляделся. Все та же комната. Только кроме Мальтуса, Пло-бо и еще одного, без особо оригинального имени, никого не было.
- Скажи ему, Мальтус, скажи, - сказал тот, чьего имени я не помнил.
- Что сказать? - я еще не проснулся и никак не мог вспомнить, что я делаю в этой комнате. А. Я делаю Революцию.
- В общем, - Мальтус сделал "интеллигентную" паузу. - Мы думаем, что предатель - ты.
- Не понял. Я?! Да вы охуели.
- Да-да. Ты. Сегодня ночь перед Великим Делом. И мы не можем рисковать. Мы знаем, кто-то предатель среди нас. Я думаю, это ты. Мы даже имени твоего не помним.
- Я тоже не помню, ну и что, - спросил я. - Это что - предательство?
- Не пизди, - сказал молчавший доселе Пло-бо и больно ударил меня ногой. - Кто тебя привел в организацию? А? Откуда ты узнал о Новом Утре?
- От Карпа.
- Конечно, - сказал Мальтус, - Карпа нет с нами сейчас, вот ты и пиздишь.
- Ага, - сказал Пло-бо, - пиздит. Еще как.
- Да пошли вы!
Тут Пло-бо меня снова ударил.
- Понимаешь, - сказал Мальтус, - мы должны точно знать, предатель ты или нет. От этого зависит судьба нашей страны. Если ты не предатель, если ты верен нашему делу, то должен сам быть готов помочь нам.
- Я готов, - сказал я.
- А. Подыгрывать нам начал, - сказал тот, кто не был ни Мальтусом, ни Пло-бо.
"Ты че, имя этому третьему придумать не можешь?» - спросил проснувшийся некстати Мован. "Могу. Но я его уже как безымянного веду". "А в этом есть глубокий литературный смысл? В безымянности?" "Да нет, просто так вышло", ответил я. "Ладно". "Ладно?". "Да ладно, ладно, - сказал Мован. - А ты что, сюжет решил изменить?". "Не знаю". "Аааа", - Мован зевнул и лег снова на лежанку нашу, на аксон этот. "Пусть будет Петей", - решил я.
- Есть старинный способ узнать, правду говорит человек или нет. Мы сейчас сунем тебе в рот пустую пачку из-под сигарет. Если ты ее проглотишь, значит - у тебя есть слюна. Значит - ты не волнуешься. Значит - ты не предатель. Кто курит? Никто не курит?
- Я курю, - сказал я.
- Курит, значит, волнуется, - сказал Петя.
- Я уже 10 лет курю.
- Значит, ты не сегодня предал нас. А задолго до появления нашей Организации, - и Петя плюнул. Смачно? Не. Не смачно.
Я протянул Мальтусу пачку. Он вытряхнул оттуда сигареты и попросил:
- Скажи: "А".
- "Б", - сказал я.
И Мальтус засунул пачку мне в рот.
- Глотай!
- Глотай, - крикнул Пло-бо.
Петя лишь снова плюнул. Снова не смачно.
Пачка не залезла целиком в рот, поэтому
"Ты опять бухой пишешь", - поинтересовался Мован. "А что?" "А ни что. Как это влияет..." "На процесс творчества?" "Ха! Ты это творчеством зовешь? Это просто построение из слов, имеющее некую не явно выраженную окраску..." "Это и есть творчество". "Да-да. Творец. Ты небось себя творцом там ощущаешь. Концом бы лучше почаще ощущал!". "Да пошел ты". "Ну вот, совесть, как всегда, прогоняют. Голос разума. Голос сердца. Голос души", - и Мован притворно заплакал. Не обращая внимая на его плач, я снова вернулся к столу. "Все возвращается на круги своя. Свои. А круги как были на воде при первом всплеске, так будут и на последнем, но будут уже больше водой и меньше кругами. То есть от искусственно возникшей искусственной ситуации они перейдут в другую материальную реальность. Примерно как непорочное зачатие, только со смыслом", - подумал я и взял перо. Потом вспомнил, что пишу авторучкой, и перо исчезло.
поэтому Пло-бо ее поглубже затолкнул.
Движение света в пустоте
Я просыпаюсь с кровати в пространство своего дома, в светлое утро. Я чувствую, я есть, я существую. На настенном календаре – фотография храма Афины Паллады в огне. Рядом изображен маленький человек без шапки. И надпись – «Ты сделал это!». На календаре 21 число – я родился в этот день, много лет назад, когда был юн. Я иду на кухню и варю кофе, сопровождаемый дождем снаружи (хотя только что ясное утро). Я пью кофе и ем то, что есть у меня. Собака хочет гулять и мурлычет, будто беременная кошка. Собака хочет гулять, и я существую этим. На улице уже нет дождя, зато есть лужи, хотя вчера луж не было, это я помню. Мы идем с собакой по лужам, и я говорю с ней, хотя она не отвечает. Я говорю, что пройдут годы (или уже прошли), а я останусь здесь, потому что я вечен, потому что навсегда, я чувствую, я живой, я теплый, и боюсь смерти. Улица полна другими людьми, хотя возможно, они просто люди, а я – нет, или наоборот. Нигде не сказано, что я им родственен, мы появились из разных мест – они своим путем, я своим. Но все довольны утром, оно светлое. Люди идут работать, люди – рабочие, люди живут так, как им завещали. Я бы тоже что-нибудь позавещал, да нечего. Зато есть собака и теперь она хочет домой (или мне так думается). Мы встречаем детей и дети видят нас, и говорят с нами. Дети говорят, что вчера видели, как я занимался черной магией, в то время как они сидели в песочнице. Мне нечего сказать детям, я обхожу их бочком и они исчезают, то ли за моей спиной, то ли вообще. Еще я встречаю дворника, он озабочен приобретением антигололедных реагентов на зиму (он полагает, что доживет), и рассказывает мне об этом. Я не знаю, где находятся реагенты, и дворник мной недоволен. Он говорит, что таких, как я, надо поганой метлой гнать. Он говорит это уже пять лет, я привык и не обижаюсь. У дворника нет левого глаза, потому, когда он щурится на утреннее солнце (и причмокивает), я обхожу его слева, я отдаляюсь от дворника.
Я сел дома и смотрю телевизор. Показывают фильм. Это фантастический боевик. Кто-то (злодей) залил взрывоопасной жидкостью один из шаров на празднике детей. Детей в фильмах часто заставляют что-либо праздновать. Полицейский пытается выяснить, какой из шаров с вредной жидкостью, и обезвредить его (шар). При этом, чтобы не лишать детей празднества, само действо не отменяют. Тут полицейскому начинают сниться странные сны (как будто сны бывают не странные). В них он общается с шарами. Шары, оказывается, обладают разумом (и думают им). Шары не хотят, чтобы их протыкали (а это единственный способ определить, где есть вредоносная жидкость, а где нет). Тут я шары понимаю. Кому понравится, что его протыкают? Полицейский просыпается в холодном поту и долго смотрит в оконную ночь. Вскоре видения застигают полицейского повсеместно. Шары являются к нему и сообщают о том, что не надо их протыкать. Полицейский, ясно, не верит шарам и идет к психоаналитику (фильм американский). Психоаналитик советует поехать на море, отдохнуть. Дескать, заработался полицейский. Он берет отпуск и едет на море (а зовут его Джек). И вот он в шезлонге с красоткой. Тут – телефонный звонок. Звонят из полиции его города. Происходят странные вещи. Специально обученные люди, протыкающие шары, падают и бьются, и некоторые умирают. Полицейский возвращается в город. Пока он едет, ночью, в мотеле, он видит (сон), как погибают люди. Они склоняются над шарами, пытаясь их проткнуть, и тут другие шары подпрыгивают и сбрасывают на этих людей разные предметы. Когда он приезжает, то оказывается, что погибли те, кого он видел во сне. Он ждет следующей ночи и вступает с шарами в контакт.
Тут в квартире звонит телефон, и я иду к нему. Там говорят, что я скотина – у моей подруги нервы, ей надо с кем-нибудь поговорить. Я говорю с ней. Прощаюсь: «ну, хнык, пока, милый, приходи вечером, а?». Я возвращаюсь к телевизору.
Шары вступили в полноценный контакт с нашим полицейским. Из контекста я узнаю, что шары – что-то вроде хранителей нашего биологического вида («форма спасет мир»). Не все шары разумны. Но те, которые разумны – разумны по полной программе. Кроме того, в фильме появляется девушка (фильм американский). Девушка пока есть только в видениях нашего героя. Она посредник между шарами и людьми. Герой ищет эту девушку в реальном мире (в фильме есть реальный мир). Находит. Она лежит три года в коме в больнице в захолустье (там проволока колючая и лес). Полицейский влюблен. Тем временем скоро праздник у детей. Начальство требует прокалывать шары, но те, кто их прокалывает, все гибнут и гибнут. Джек, понимая, что шары нельзя уничтожать, все-таки разумный вид, принимает предложение шаров перенестись в мир грез и найти зараженный шар. Этот шар самим шарам неизвестен. И вот Джек тоже впадает в кому. Он попадает в мир света и пустоты. Там живут шары, облака и туманность. Он говорит с шарами, узнает их, если так можно сказать, культуру. Сами шары существуют в других измерениях, нежели мы. В нашем мире есть лишь их пустая оболочка. Они никак не связаны с ней, кроме того, что когда нарушается оболочка, то шар гибнет. А вообще они не шары, а потомки супер-цивилизации Меркурия. Когда у Меркурия что-то стало не то, шары перебрались в наш мир. Они добрые и постоянно помогают людям. Среди этих меркуриан он встречает свою любовь, посредницу между двумя мирами. Они вместе ищут зараженный шар. И находят. Но поздно. Происходит взрыв, и дети погибают в массе (фильм американский, но неплохой). Шары, то есть меркуриане, очень сожалеют о случившемся. Но уже ничего нельзя изменить. Джек возвращается из комы и немедленно едет в захолустье к своей любови (Элен, кстати). Но Элен нет на месте. Где же Элен. Никто не знает. В это утро медсестра вошла в палату, а Элен там нет. Все полагают, что ее украл некрофил (комофил?). Джек в отчаянии. Он просит совета у шаров, но шары не отвечают ему. Постепенно Джек понимает, что с шарами что-то случилось. Что-то недоброе. Он продолжает искать Элен и летит в Африку (почему именно туда, я так и не понял). Пока он летит в самолете, фильм кончается. И где же Элен? И что случилось с шарами? Продолжение следует (фильм американский)! Смотрите «Шары-2 или что случилось с Элен».
Я выключил телевизор и тупо посмотрел на стену. Стена не знала, где Элен, весь мир не знал, где Элен, Элен исчезла. «Элен, теперь где ты?» - с горечью подумал я. Но тут же понял, что надо выбираться из культурного пространства фильма. Предоставив Джеку поиски Элен, я пошел к холодильнику, где нашел еду. Я ел и смотрел в окно, где воробьи поселились на дереве (одном) и верещали. Казалось, что дерево пело (впрочем, эта фраза не отсюда).
Был ранний вечер. Меня никто не поздравлял, лишь подруга робко намекнула, что ждет, но я отказывался по причине ее несусветности.
Я курил трубку, пока вечер, и думал о том, что вдруг, если этот день последний. Вдруг наш дворник на самом деле маньяк и сейчас придет, и заманьячит меня. Вдруг дом рухнет от гравитации пустых полей, приблизившихся к дому случайно. Вдруг у меня неизлечимая болезнь? Вдруг шары? Пусть я вечен, но такие вопросы волнуют и пугают. Я боюсь своих вопросов и потому достаю из шкафа чекушку водки и пью ее с соком. Трубка, кресло, все такое домашнее и родное, все сообщает покой, но и это пугает, покой, тишина. Много тишины. Вдруг.
Я допиваю водку, но это не то опьянение, что помогает, а то, что усугубляет. Почти автоматически я выхожу гулять с собакой. Встречаю детей, они дразнятся – «некромант, некромант, злобный враг, негоциант». Я ухожу от детей, они улюлюкают. Улю-улю – в пустом дворе, тишина в подъезде, тишина дома.
Делать мне нечего, я давно пережил тот момент, когда было что делать. У меня нет цели, у меня нет воли. Я не хочу самообмана. Звонит девушка, спрашивает, не разойтись ли нам. Нет, говорю. Я цепляюсь за девушку, потому что она уверена, что тоже живет, потому что живет еще кто-то, кроме меня, что я не один, нас много (хотя бы двое) и мы всем покажем (неважно что). Я еду к девушке, накормив до того собаку костями (собаки это едят). Но девушки нет дома, я приехал в другой дом, в чужой дом, я потерялся.
Я иду по улице из дома, который должен был оказаться с девушкой, а вместо того оказался с кодовым замком и злыми людьми. Я иду по улице, и мысли во мне не те, что можно думать, но те, что как бы из ничего. Мне видятся шары в своем светлом холодном мире. Пустыня бесконечного света, а внутри – ничего. Я иду по улице, и рядом другие люди, но идем раздельно. Люди идут с работы. Им не до меня, не до друг друга, не до себя. Я хочу не думать, но не могу, это мне присуще. Теперь я хочу к себе домой, там хотя бы тепло и кресло. Я прихожу и очень рад собаке. Она мой друг, все мои друзья.
Раздаются внутренние голоса. Еще звонок. Девушка. Она говорит, что я сволочь, и бросает трубку. Я ем пирог, у меня день рождения. Возможно, последний. Никто не поздравляет, никто не может поздравить. Голоса. Они внутри. Что они говорят – непонятно. Он шепчутся. У них от меня есть тайна.
А день кончается, и приходит ночь. И ночью все спят. Все спят таким образом, что им уютно. Я тоже скоро буду спать – уют хорошо. Я стелю кровать. Я моюсь. Я чищу зубы. Я ложусь в темноту из пространства своего дома. Я собираюсь спать. «Вдруг шары?» – думается мне. Но нет, не надо. Я сплю, это мой последний сон, который будет длиться вечно. Утро было раньше, теперь иначе. Во сне моем нет шаров, тут много другого, но шаров нет. И меня нет (хотя и сплю). Я погас, я ушел, я с другой стороны (хотя как посмотреть). Тут яблоки – но это для богатых. Все, что имеет смысл – уже сказано. Наше время – время, когда смысл кончился, а значит, может исчезнуть и само время. Мы можем быть лишь действием света. Свет падает, и поверхность отражает свет, часть его жадно оставляя себе. Представления о том, что мы способны отразить еще что-то – суть ересь. Конечно, есть идея сингулярности, она может помочь, но я не знаю, о чем эта идея и где. И идет сон, сон без шаров. Я вышел, и повседневность кончилось новой вечностью. Я не боюсь, хотя и надо бы. Я ведь теперь ничто – лишь движение света в пустоте.
Семеро против Фив
Кухулин. Город Фивы необычайно красив. Там много храмов, дворцов, портиков и прочего барокко. Но знаменит город Фивы своими воротами, числом семь. Семь – известное число, а греки очень любили числа, они ими считали. Город Фивы был древний, там жили прекрасные люди, а в фонтане на центральной площади был пол с изумрудным кафелем. Однако, несмотря на свою чарующую прелестность, Фивы оставались городом и потому требовали разрушения. Семь героев, которые должны были этим заняться, относились к Фивам с симпатией и даже были женаты на местных жителях (по крайней мере, некоторые из них). Герои вышли ночью, пришли в Фивы днем. Они встали у городских стен, готовые к разрушению. Каждый входит через свои ворота. Герои определили, кто с какой стороны войдет в город. Потом герои позавтракали. После завтрака, отведав молодого красного вина, к Фивам направился Полиник. Полиник был героем, хоть и с небезупречной родословной. Его брат был одновременно и его отцом, он преступно сожительствовал с матерью, не ведая своей злосчастной судьбы. Иногда Полиника беспокоил этот факт, и он страдал в простыне ночи. Но такое случалось нечасто, так как нрава Полиник был буйного, и буйствовал большую часть отпущенного ему времени. Полиник вошел в северо-западные ворота. Пройдя несколько шагов, Полиник схватился за сердце и долго лежал так, пока не умер. Это происшествие озадачило героев. Однако от плана своего они не отступились. Аль-Моверан, отобедав, двинулся к городу. И почти сейчас же за ним последовали Иоанес и Тод, Готес Тод. Участь, что была им уготована, скоро прояснилась. Войдя, каждый со своей стороны, в город, они почувствовали недомогание, каждый по-разному, в меру своей способности чувствовать, и сгибли вскорости. Наметившаяся тенденция немного озадачила оставшихся, но они были героями, а город подлежал разрушению. Конечно, погибший герой – всего лишь труп, а трупом быть никто не хочет, более того, герой, бесславно гибнущий, тем самым как бы показывает, что он вовсе не герой, и именно это чуточку смущало. Однако они все искренне полагали себя героями и отступать от намеренного не собирались. Торкаст и Девкопол, разорвав свою обычно двуединую сущность, пошли к городу, правда, лишь после того, как все вместе отобедали. Они вошли – один с юга, другой с севера, но в ту же секунду упали, сраженные. Чем они были сражены – никто до конца не разобрался: то ли молнией, то ли громом, но в божественном вмешательстве никто не сомневался. Разозленный, Ахилл бросился к городу, только пятки сверкали. Он вбежал в ворота и оглянулся, ожидая скорую смерть. Смерть не заставила себя ждать. К ужину в лагере героев никто не прикоснулся.
Герои и не думали, что не в каждый город можно войти через ворота, также как часто нельзя понять смысл сказанного из слов. Литература тем отличается от реальности, что она обычно оставляет героям лазейку, выход, ружье на стене, чтобы они могли после всех испытаний одержать достославную победу. Потому как литература героев любит, а реальность - нет.
Направляясь в Фивы, герои взяли с собой мальчика, нести поклажу. Мальчик пригодился. У этого мальчика, как и у многих людей, есть имя. Скоро вы его услышите. Где-то совсем далеко от Фив, смотря в серое небо и лаская слух, называя мир поднебесьем, я оставляю лазейку, проход сквозь стены, чтобы города могли пасть и бесконечность искриться. Вот эта лазейка: Кухулин.
Жизнь и смерть в префектуре Сибуя
Я никогда не был в префектуре Сибуя, и не знаю где это находится. Возможно это в Японии, возможно, Япония в этом. Знаю, что в Японии жил мастер меча Такуан, он любил квашеный редис. Такуан умер, глотая свои слюни. Некоторые вещи, не такие, как кажутся. Другие такие, как кажутся. Третьи просто кажутся. Я могу говорить о последних. Говорят, когда утром цвела вишня, у Такуана пропадал аппетит. Говорят, когда утром цвела вишня, у Такуана пробуждался аппетит. Говорят, утром цвела вишня. Некоторые любят поговорить.
Тем временем он зашел в темную комнату. На улице был дождь. Он промок. Он дрожал. Где-то в комнате, на стуле, сидела женщина и курила. Запах сигарет иногда противен. Женщина сказала «здравствуй». Он дрожал. Он спросил сколько. «Двести пятьдесят», - сказала женщина. Он достал из кармана деньги и положил на столик. Столик тоже был в этой комнате. Молчание. Спустя три минуты (женщина курила) он стал раздеваться. Он снимал одежду и клал ее на пол, аккуратно складывая. Положить свои вещи еще куда-нибудь он постеснялся. Перед тем, как снять трусы, он немного замешкался. Мыслей в голове не было. Он снял трусы. Где-то в темноте улыбнулась женщина. Теперь он стоял голый посреди комнаты. Его большой некрасивый волосатый живот почти полностью скрывал его маленький пенис. Пенис пугливо забился в складки живота и жил там своей нехитрой жизнью. Женщина потушила сигарету и подошла к нему. Сердце билось, очень хотелось выбежать из комнаты. Убежать. Хотелось громко закричать. Он дрожал. Чего-то очень хотелось и не хотелось одновременно. Женщина прикоснулась к нему собою и поцеловала в губы. «В первый раз?» - спросила она участливо. Он покачал головой. Вслух сказал: «Н...да.». Женщина сняла халат. Под ним был неглаженый лифчик (он не знал, гладят лифчики или нет, но этот лифчик выглядел неглаженым) и трусики. «Ажурные», - назвал он их. Женщина положила его ладонь на свою левую грудь и, прикрыв своей ладонью, стала плавно втирать. Все выглядело крайне глупо. Она взяла его за руку и повела к кровати. По пути она сняла трусики. Вагина была небритой, волос было много. Волосы его испугали и обрадовали одновременно. Волосы делали ситуацию реальной и одновременно сообщали ей нездоровый оттенок непонятного чужого бытия. Малые половые губы выступали, отчего вагина женщины походила на бантик. Он знал о женской физиологии больше многих женщин. «В первый раз, голубочек», - как бы для себя сказала женщина. Теперь они находились на кровати. Она лежала, он сидел. Женщина облизала пальцы и смочила вагину. Потом она опять взяла его ладонь в свою и потянула ее в щель. Из него как будто выпили волю. Он хотел, чтобы все побыстрее закончилось. Он хотел солнце, улицу и свое обновленное мироощущение. Правда, сейчас дождливо. Часто идут дожди. Его пальцы вошли в нее. Она было довольно сухой. Он помассировал внутри. «Вот, молодец», - сказала женщина без выражения. «А где там наша пипочка, сейчас мы займемся нашей пипочкой, - с материнской лаской стала говорить женщина, - ну-ка. Где там пипочка?» Такое наименование его члена смутило его сильнее, чем что бы то ни было из происшедшего. Он привык к более грубым названиям. Тем временем нашлась «пипочка». Женщина нежно водила рукой по члену, постепенно увеличивая силу. Член встал. Он возбужденно задышал, вся предыдущая нелепость ситуации, все его волнения ушли. «Я… хочу... введи меня», говорил он. Женщина сказала четко поставленным возбужденным шепотом: «Сейчас голубчик, сейчас». Она придвинулась поближе. Теперь он лежал, закрыв глаза. Женщина полулегла на него. Она продолжала ласкать его член, постепенно придвигаясь к нему своими бедрами. Он попытался сдержаться, но не смог. Он кончил ей в руку. «Ой», - сказал он, не веря. Он открыл глаза и удостоверился. «Ёёёё», - захныкал он. «Ничего, ничего, - говорила женщина. - Отдохни, так бывает, а потом…». «У меня только на сорок минут, - пробормотал он. - У меня больше нет денег, это все, что я смог накопить». «У тебя еще полчаса, успокойся, - сказала женщина. - Кроме того, ты вполне можешь считать, что ты уже мужчина». «Ты вел себя… молодцом», - добавила она в сторону. «Нет. Я не смог, - сказал он. - Я неудачник, я не мужчина, я слабак!», - бормотал он, ненавидя и презирая себя. «Мы все сделаем, мы сейчас все сделаем», - говорила женщина, уже не скрывая своего отвращения. Женщина взяла его член и с остервенением принялась мастурбировать. Потом она попыталась ртом. Полчаса прошли быстро, но у него так и не встал снова. «Жаль, но тебе придется уйти, заходи еще», - сказала женщина, отвратительно, по-матерински улыбаясь. Он, не пытаясь возражать, как будто ожидая этих слов (и он действительно ждал их), стал быстро одеваться. Он оделся. «До свидания, спасибо», - он медленно пятился из комнаты. Выйдя, он бегом выбежал из здания. На улице был дождь. Стараясь ни о чем не думать, он быстро бежал под дождем по направлению к своему дому. Надо успеть на ужин. Жизнь и смерть в префектуре Сибуя шли своим чередом.
Настя
сколько нежности во мне, бля. Так бы и играл с настиной бровью. День. Два. Три. Куда деть-то непонятность свою? Нежность. Кусать Настю за сиську, пока не сжевать всю. Да, Настя. Я люблю Настю? Нет. Она мне нравится? Да. Я ей нравлюсь? Да. И что? И ничего. Некого погладить? Погладь свою собачку. Погладь свой хер. Скучно? Так дел-то до хуя накопилась. Лень. Все лень. Это же страшно, когда понимаешь, что единственное, что тебе действительно нужно, без чего не обойдешься - так это сигарета. Нет. Не из-за зависимости. Должно мне быть нужно хоть что. Настя нужна? А зачем? Гулять с ней? Идиотизм. Трахаться? Так это когда. Да и не особо хочется. Хочется чесать ее кости. Лежать на ее животе. Слушать ее милое дыхание. Смотреть ей глаза в глаза. С бровью играть. Бровь - тема. Она выщипана отчасти. По ней проведешь против шерстки – так она лохматой вроде станет. Клевая. Разве можно в Настю хуй совать? Так это ж преступление. Смысл какой есть разве. Туда-сюда. Не, приятно, наверное. Но лучше с бровкой играть. Нам с Настей и говорить тяжело. Уйдет в себя она - не откопаешь. Я говорю - я трепло. Ее что спросишь - да, нет, классно, интересно, не интересно. Еще она мне не верит. И грустит чего-то. Молча. А ты как идиот рядом сидишь. Идиллия, короче. Настя симпатичная. Жутко. Интересная. Ну и что? Занятие я себе придумал: ухаживать. Ненавижу это все. Цветы там подарил, в кино сходил, шампанского попил. Дальше что? Контакта все равно нет. Поцеловать ее, что ли. Занятие будет. Хотя у меня уздечка под языком слабая - рваться будет. Того разве стоит? Жаль уздечку. Своя, знакомая. Страшно все-таки совать елду в Настю. Мою елду. Не то чтобы она у меня некондиционная какая. Елда как елда. Все равно странно это. А вот большой палец ноги я бы в нее без зазрения просунул. Забавно. Могу себе это представить.
А тут еще и жизнь говно. Ничего хорошего. То ничего не происходит, то надо хуйней всякой заниматься. И все на фоне ублюдочной системы. Людей всяких мрачных. Настя считает, что я нормальный. Ха! Я самый ебанутый из всех ебанутых. Я нервный. Я депрессивный. Мрачный. Злой. Агрессивный. Нетактичный. Да я готов кобылу в жопу трахнуть! Я могу кирпичом проломить башку любому прохожему! Я в запой бы ушел месяцев на пять спокойно. Все остоебло. А более - те, которым все остоебло. Дебилы, общения хотят. Поговорить не с кем, придуркам прыщавым. Для них интеренету изобрели. Чтобы они на клавиатуры кончали. Да они любой бабе сунут - лишь кто ноги чуть раздвинет. Они за сто дензнаков отсосут за милую душу. И чтобы есть японскую еду, всю жизнь будут в восемь утра вставать. Мудачье. Я уж лучше одной картошкой обойдусь. Знают все, бля. К независимому стремятся. Ни хуя, нету независимого ничего. Все за блядскую премию забудут про свой андерграунд. Примазались к моему одиночеству. Ненавижу уродов. Эстетика - она человека облагораживает.
Я бедный. А настин папа буржуй крутой. Нетути денег с Настей ходить в бар. А гулять просто - ненавижу. Все это под ручку, под ножку, беседы о высоком. Да я бы молчал всю жизнь. Надоело говорить. Какой смысл? Слова - не более чем они сами. Нет у нас с Настей перспективы. Не будет. Вот влюбись я в нее. Хотя бы стимул был. Непонятно. Настя же вправду дико приятственной внешности, жестов, мимики. Настюха (ей не нравится, если я так ее называю). Настя. Грустно ей. Хули ей-то грустно? Погрустить захотелось. Парня бывшего вспомнила? Так и что. Проблемы себе каждый напридумывать горазд.
Любовь
- Напиши, например, про любовь..., - сказал мне мой друг, пытаясь попасть солнечным зайчиком, прирученным с помощью полупустой бутылки пива, мне в глаз. - А то ты все про энтропию, деструкцию, девиантное поведение выдаешь. И "хуи" на каждой странице. Много, много мата. Так, блядь, нельзя.
- Ну это же честно. Я так с тобой разговариваю, с собой. Ну и с ублюдками разномастными.
- Честно. Ха! Но ты же не станешь есть при всех свои козявки, говоря, что ты их ешь, когда один, значит - честно их есть при всех.
- Я не ем козявок.
- Хорошо. (Хотя ты многое теряешь). Представь, что ты решил походить без штанов по улице. Почему ты так не делаешь?
- Так дядя милиционер меня больно ударит.
- А тут - тетя редактор. Напиши просто, без всей этой "блядщины", про нормальные человеческие чувства. Про светлый мир и его прекрасных жителей. А то ты никогда не попадешь в хрестоматии. И имя твое, твою мать, будет красоваться лишь на стенах мужских туалетов, написанное мочой, но никогда, слышишь - никогда - на стенах женских, нарисованное дорогой помадой, и с подписью, вечно твоя, Оля.
- Оля? А, Оля. Оленька.
Ладно. Вот вам про любовь: любви все возрасты покорны. Любишь - люби открыто. Спит красавица в гробу, я подкрался и..., тьфу, не то.
Любовь бывает разная. Мужчина с женщиной. Женщина с себе подобной, мужчина с мужчиной, мужчина с крупным рогатым скотом.
[…] мезальянс (когда с сыном царя), адюльтер - когда со всеми остальными, ипсация - когда наедине с собой, как Марк Аврелий.
Любовь бывает физическая и... и..., ну и, наверное еще какая-то. А! Платоническая. Это когда хочешь физической, но об этом не говоришь.
А теперь про Олю. Ее фамилия - Нормандская. Слишком большая фамилия для такой маленькой девочки. Оля реально существующий персонаж, в отличие от моего друга (он - сборная солянка более ранних апокрифов). Оля - это та девочка, которую я люблю (или любил). В этом роде она единственная. Я любил ее именно платонично. То есть никогда не ебал. Следовательно, дальнейший рассказ имеет смысл лишь в том случае, если я что-нибудь придумаю. Ведь писать о существе не то что никогда не ебаном, но даже и чей внутренний мир абсолютно неизведан, могли лишь французские авторы-мастурбаторы прошлого века. Я не такой. Покуда ничего не придумывается, пофилософствуем. Любовь - сложное чувство, обостренная, больная симпатия к человеку или к корове. "Пора погулять с собакой", - решил я. "Иду, иду", - ответил себе. И я оделся, свистнул и вышел на лестницу, а там, обнявшись, стояла парочка. Я был уверен, что и на обратном пути они будут также слеплены, как пельмени некачественной лепки. Я вошел в лифт. В лифте на стене была нарисована грудь Нюры, с седьмого этажа, я сразу ее узнал. Вспомнил, как два года назад Нюра, тогда еще школьница, упала с лестницы. Мы с Самуэлем Эдуардовичем стали делать ей прямой массаж сердца, разорвав для этой цели майку и сорвав лифчик. Самуэлю пришло на ней жениться, когда она очнулась, как "честному человеку". За время супружеской жизни она его так задолбала (я написал не заебала, я заменил некультурное слово его синонимом!), что он стал мстить ей путем рисования различных частей ее тела в лифте, на лестнице, в подъезде. Сегодня была, как я уже сказал, грудь. Я вышел на улицу и разрешил собаке пастись и есть снег. Что она и начала претворять в жизнь. Я решил закурить. Закурил. Посмотрел на звезды, выбрал самую большую и погрозил ей пальцем. Мол, не пизди, лампочка хуева. Я свистнул (позвал то бишь) собаку и мы пошли домой. В другом лифте лежал чей-то зуб. "Выбили", - догадался я. На этаже все еще стояли давешние любовнички. Она, видимо, рассказывала ему о том, как никто ее не любит. Он говорил, что ну как же, любит, он любит, он хочет (например прямо сейчас). Что, здесь? - интересовалась она. Он кивал и сжимал ее крепко-крепко (он думал, так должен обнимать настоящий мужик). Я иначе себе представляла это; она уже соглашалась. Потом она провела своим большим асексуальным ногтем по его шее (такие ногти должны быть у настоящей женщины) и снова положила голову (так и хотел написать "свое ебало", но сдержался) на его плечо. "Конечно, они не трахнутся сегодня на моей лестнице. Ни он, ни она к этому не готовы. Но зато они вдоволь об этом наговорятся, что позволит им вечером в своих квартирках с большим кайфом и новыми мыслями дотрагиваться до своих гениталий", - заключил я и пошел есть пельмени. Вернее, вначале варить, но процесс готовки - суть ментальное употребление пищи, то есть тоже относится к процессу еды. Пельмени варились крайне аутентично, всем своим видом показывая, что и без меня приготовятся. И я пошел на улицу курить. Там была только девушка. Она спросила (скорее меня, чем себя): "Почему все мужики - скоты?". "Это потому, что все бабы - суки", - ответил я. "Что?". "Я хочу сказать, что у мужчин есть специальный фермент, который заставляет их мучить женщин, зачастую - без их желания. Этот фермент катализирует процессы антигендерной направленности. И мужик или становится пидорасом, или начинает обижать слабый пол".
- Да? А как с этим бороться?
- Делать вид, что ты всех мужиков в гробу видала.
- Сейчас попытаюсь... Но я не могу представить вас в гробу!
- Правильно, это потому что я бессмертный.
- Правда??? - она задумалась. - Клево, наверное.
- Угу.
- Так мой Вася пидорком может стать, если не будет меня обижать?
- Да. А если не будет общаться с тобой посредством пениса - то точно.
Она ушла бес слов. Сигарета кончилась, и я закурил еще одну. Я люблю курить по две - вот что достойно любви. Сигареты! Тут вернулся ее друг, Вася, по-видимому, и сказал : "Ты оскорбил мою девушку. Ты назвал ее нежный анус "дыркой"!" "Не было такого". "Но ты так думаешь?". "Ну, анус по своей сути не что иное как дырка...". Тут он дал мне по носу и ушел. Дома я поел пельмешек, помазал носяру йодом и сел читать книгу "Убить Редактора" одного японского автора. "Когда я написал свой первый роман и принес его в издательство, редактор был очень мною недоволен. "Слишком большой акцент делается на том, на чем акцента делать не нужно. А некоторые места звучат совсем не по-русски", - прокричал редактор. Все мои попытки убедить его в том, что я пишу по-японски, не увенчались успехом. Я вынужден был убить редактора. Следующий редактор отнесся к моему творчеству также без восторга и последовал за первым. Третий оказался умнее. Теперь, подержав в руках Фолкнеровскую премию и трахнув английскую королеву, я думаю, что грех убийства смыт миллионными тиражами моих книг..."
Настя-2
Я пишу этот рассказ для Насти. Не то чтобы я хочу произвести на нее впечатление. И не потому, что я не могу иначе с ней поговорить. Нет. Просто Настя попросила что-нибудь почитать. А я не могу давать старые рассказы. Они ведь как выдохшееся вино. Пьянит, но теряет свой вкус. Таким образом старые рассказы приобретают посторонний вкус. Они проходят через чужие руки, через чужое дыхание, сквозь чьи-то мысли. Этот рассказ должен быть девственным к тому моменту, когда его прочтет Настя. Таким образом, она прочтет именно то, что я написал, пусть и с пылинками и воздушными водоворотиками, которые попадут на бумагу, когда я буду нести ей этот рассказ. Вообще, лучше писать для себя. Но бывает, нечего себе рассказать. Нечего поведать и людям. Но всегда можно что-то поведать Насте. Одному рассказывать проще. Правильнее писать для Насти, чем для издательства, понуждаемый договором и возможностью денег. Настя может улыбнуться, а деньги не умеют. Они могут принести смех и радость. Но их пока не обучили улыбаться. Это к лучшему. Далее. Я не знаю ни о прошлом, ни о будущем. По крайней мере не могу выразить, что знаю, в словах. В настоящем же я сам, я его заполнил. Мне и самому в нем тесно, тем более, если в нем поселятся и мои слова. Они будут просить корма, тараща на меня свои глаза - буквы "О". Они станут вилять хвостом, просить их погладить, игриво ущипнуть. Им нужна моя в них уверенность, моя подпитка. Когда слова просят, это жалкое зрелище. Поэтому то, что будет рассказано, не будет находиться во времени. Это сказка. Собственно:
Кусочки плавленого солнечного света лежали во дворе Замка, хотя солнце уже скрывалось (блин. Никогда не помню, куда садится солнце: на запад или на восток. Пусть садится за горой). Повара играли во дворе в преферанс. Замок скрипел, постепенно готовясь к ночи. Все тихо. Повара думают, что им слышно, как растет трава. Не так. Это мыши обедают в подвале. В подвале сыро. Там - уже упоминавшиеся мыши и разные запасы - еда. Еще там живет Ир. "Кто такой Ир?", - спросила Настя. "Не знаю, - сказал я тихо, боясь разбудить себя, - но Ир живет именно там". В подвале темно и боязно. Поднимаемся. Второй этаж пуст. Заглядываем всюду, где можно видеть - никого. Смотрим туда, где видеть нельзя - тоже никого. Третий этаж - и - удача. В спальне - Король и Королева. Король лежит на ее животе, и слушает, как существует внутри его жена. Он слышит удары ее сердца, слышит, как соки, воды и кровь текут туда-сюда, как лимфа зреет в узлах, как нервы распрямляются. Он чувствует, что она слегка потеет. Горят дрова в камине. Он утыкается лицом в Королеву и начинает слегка жевать ее кожу. Потом они развлекаются тем, что сворачивают уши друг другу в трубочки. И разворачивают. Далее он дует в ее уши, она в его. Еще он гладит ее ногой. Да. Ногой. Еще он нюхает ее руки – они пахнут по-разному. Левая пахнет часами, правая сигаретами. Король так счастлив, что даже не хочет курить. Что полностью устраивает Королеву, которая не любит запах табака, хотя любит курить. Затем она, Королева, и живет. Чтобы Король не курил. Она, понятное дело, не согласна с таким решением смысла ее жизни. Впрочем, повторяю, она существует не для того, чтобы быть со мной согласной, а чтобы отрывать Короля от курения. Хотя не согласен и Король. Ладно. Пусть живет затем, зачем хочет. Ну глупость я сказал. Бывает. Итак, они играются. А в соседней комнате инфантильный инфант мастурбирует. Откуда взялся инфант, никто не знает. "А кто такой инфант? Он кто кому? В каких родственных отношениях он с Королем?" – заинтересовалась Настя. "Инфант - он на то и инфант, чтобы быть самим собой. Быть никому никем, - сказал я глубокомысленно, так как не знал. - Спроси лучше у него". "Простите, а вы Королю кто? Зачем?" - спросила Настя у инфанта. Тот, перестав дрочить, что-то ответил и снова погрузился в свое занятие. "Что он сказал", - спросила Настя. "Он сказал, что он не расслышал вопроса", ответил я. Инфант мастурбировал с рождения и не смущался. Ему не запрещали, и в итоге он потерял интерес к женщинам, к мужчинам и к коровам. Лишь герань его интересовала, он любил ее скрещивать. В его комнате стояло пятьсот два горшка с геранью девяноста трех видов. В комнате не было камина, поэтому в холода он прислонялся к стене, где по другую сторону жили Король и Королева, которые грели друг другу пятки волосами. Инфант прислонялся к стене, за которой стоял камин, и ему становилось теплее. Не от камина. От сознания того, что камин там есть. "Как может греть сознание?" - это Настя влезла в сказку. Стараясь быть вежливым, я ответил: "Так же, как и камин - если подбросить туда дров, будет греть. Жаль, мало кто знает, какие именно дрова нужны". Настя вроде обиделась. "Что значит "стараясь быть вежливым"? Тебе неприятно мое присутствие?" "Нет. Просто вежливость у меня не от природы, поэтому, чтобы ее проявить, надо постараться, - выкрутился я. - Чтобы оправдать смысл в одних словах, надо в оправдание вложить смысла поменьше". Инфант был несчастен. Он ничего не делал, никого не любил и редко выходил на солнечный свет. Он жил ночью. Ночью он бродил по дворцу, проверял, не трахаются ли повара с горничными, ловил мышей и иногда выл на луну. Он хотел стать волком. Но ленился. Днем он вел растительный образ жизни. Спал, ел, иногда пил. В целом это неинтересная личность. Уж не помню, зачем он мне в сказке понадобился. Пригодится. Такой человек всегда может совершить нечто неожиданное, притом это не будет нарушать логики сюжета.
Моя кошка
Если все время отрезать кошке хвост, то в знак противоречия она перестанет есть и будет просвечивать. Может начать нести яйца, но это клинический случай. Была у меня кошка. Отрезая кусочки от ее хвоста, я чувствовал движение времени, легкое дуновение осени, кристальность зимы, весну, которую я не люблю и не награждаю банальным эпитетом. Когда хвост кончился, я не знал, что делать. Кошка есть. Хвоста нет. Нечего отрезать. Надо сказать, что с отрезанием я свыкся, оно стало мне родным и близким, как далекая Тула бородатым викингам. Не мог я без него, о чем и оповестил всех, кого встретил позже. Чем еще сильнее упал в их глазах (и в некоторых разбился). Метафоричность кошкиного хвоста не давала мне покоя, я верил в кошкин хвост. Я слышал ее мяуканье из потаенных пыльных углов своей комнаты, она скреблась под кроватью по ночам. Когда я возвращался с хлебом и молоком из магазина, вещи были разбросаны. Она игралась тут без меня, без робости и смущения, как большая. Искала домового и, находя, гоняла. Потом ее не подкрепляемое ничем наличие стало надоедать. Соседи, правда, жаловались на поскреб и визг животный, но соседи жалуются на все, жалуются заранее. Она нагло исчезала при разговоре с ней, хотела веры.
В один из дней (их вообще много, можно выбрать), в день, когда кошка просвечивала пуще обычного, я понял смысл жизни. Как бывает, я курил трубку, сидя на подоконнике, обняв свои большие квадратные колени и теребя умирающую на пятках кожу. Взгляд, обращенный в окно. Взгляд мой, он был на дереве, где прыгал с ветки на ветку, как замерзшая ворона. Когда я переместил свой взор на ветвь, что была второй снизу, я наткнулся на коренное отличие этой ветви от прочих. “Надо же, какая ветвь, - еще подумал я. - Целое древо жизни!” - я был безнадежно испорчен литературой, впрочем, это не помешало. Итак, на ветке, помимо сучков и слаборазвитой зелени, находилась доска, на которых, случается, пишут. На доске было написано слово, которое масоны потеряли, когда были маленькими девочками. Слово, которого я никогда не слышал, слово первоязыка. Им первосвященник крестил первочеловека. Если, конечно, эта полуобезьяна уже была настолько социализирована, чтобы заниматься подобным идиотизмом. Слово, смысл которого я понял, выражало смысл жизни. Как и полагается, сумма его цифр (при переводе из букв) составляла 365, слово стояло в квадратных скобочках, как догадка комментатора, первая буква была большая. Слово было написано красной краской. Естественно, я его не скажу. Хотя бы потому, что оно из другого алфавита и эпохи, не написать его, да и красной краски нет. Ну, так я узнал смысл жизни. Соседи, которых я оповестил, на слово смотреть отказались. Вот их малый сын посмотрел и теперь левитирует в своей комнате, отказывая себе в посещении школы и просмотре футбола по телевизору.
Узнав смысл жизни, я три дня ел одни макароны. Сухие, я боялся огня. Кошка не показывалась, проникнувшись величием момента. “Больше не игрушки”, - сознавала кошка, зябко чувствуя себя, кутаясь в подкроватную пыль. Тем временем Слово, увидев, что лишь я проявил к нему интерес (юный левитатор не в счет), оскорбленное, исчезло, даже слилось с названием автобусной остановки. Слилось, и вроде как его нет совсем. Но меня уже не поменять. Я-то понял! Всевозможных божеств формы оставляю в одиночестве. Теперь я вот.
Когда вышла кошка, был вечер. Вечер сейчас практически всегда. Солнце устало. Я взял кошку за хвост и выбросил в окно. Разбилась. Почему взял за хвост? Ведь если кошки на самом деле нет, то хвоста тоже нет. Нельзя за хвост. И наоборот. Почему бы не придумать, что у кошки отрос новый, распушистый, трехцветный хвост? Вполне можно придумать, никто не мешает. С другой стороны, если кошки моей нет вовсе, то кто же разбился внизу, брошенный? Мои надежды, моя молодость. Конечно, нет. Моя кошка. А вот если кошка имеется, то как ее можно взять за хвост, который был отрезан. Отрезан давеча. Нельзя никак. Нехорошо брать за отрезанный хвост – все равно что предлагать безногому посостязаться в беге на 110 метров с барьерами. Как будто он без барьеров пробежит. В общем, ладно. Выкинул и выкинул. Никто тут теперь не ходит. Тихо. Лишь легкий шум от маленького левитатора, шум издают вялорастущие антикрылья. Когда ты знаешь смысл бытия, вполне можешь знать, что у тебя есть антикрылья. Подкрылки у малыша режутся.
Кошка догнивает внизу. Слитое с названием автобусной остановки Слово подмигивает своим левым слогом, птицы падают, увязнув в утреннем эфире, под гнетом сумерек просыпаются самоубийцы, звук неумелой левитации внизу, желание снега и почти вскипевший сладкий кофе. Это потом. Потом сидел я, болтая ногами, на подоконнике, положительно оценивая зеленый цвет своей батареи. Сидел и все-все знал. Жаль, что пушистый не скребется. Мне сладко-грустно. Жаль, что не вылазит, виновато скалясь, пыльное андрогинное животное создание из-под кровати. Не трется головой о ногу. И никогда не выйдет.
Губы
...когда я трогаю ее руку, она вскрикивает. И убегает. Я бегу за ней. Темная улица. Пахнет лужами. Только силуэт впереди - вот и вся она в моем сейчас. Дальше. Другая улица. Поют птицы: уже утро. Ее спина. Хорошая. Я хотел бы спать на ее спине. Или на животе. Чувствовать ее дыхание. Знать, когда она сглотнет, когда зевнет, слышать ее тело. Она бежит с трудом. Пригород. Утренние жители улыбаются, они еще видят свои сны. Мы тоже часть их ежедневного сна. Часть той жизни, когда они думают - по пути с работы и на нее. Бежим. Город все не кончается. Спина все ближе. Тяжело дышу. Она, наверное, тоже. Я знаю, она плачет. Плач мешает бегу. Она слаба духом, поэтому я ее догоню. Город кончился. Поле. Тут я ее настигаю. Я валю ее на землю. Борьба. Она кусается. Потом признает свое поражение. Я отрезаю ее верхнюю губу и ухожу. Я иду в город. Губа в моем кармане, завернутая в носовой платок. Губа. Я останавливаюсь. Осматриваю губу. Вполне обычная. Я видел и более интересные губы. Я пробую губу на вкус - вкус крови. Это пройдет. Вижу, что девушка идет следом, шатается и плачет. Потом падает. Поднимается, идет, орет. Тут на дороге появляется пастух и его десять коз. Он проходит мимо меня, склонив голову в почтительном приветствии. Потом подходит к девушке и вежливо просит не кричать. Она пытается ему что-то сказать, указывая на меня. Тогда он бьет ее кулаком в лицо. И так несколько раз. Девушка падает и, похоже, умирает. В любом случае, козы ее съедают. Потом пастух возвращается ко мне, и мы курим ее трубку. Потом я пью молоко прямо из сосца козы. Теплое, нежное. Пастух хочет продать мне свою младшую дочь. Сколько, спрашиваю я? Две губы, говорит он. Она очень красивая, его дочь. И крепкая. У нее есть все зубы. И она девственница. Откуда он знает? Проверяет каждый вечер. Он лежалый товар не предлагает, девка в самом соку - четырнадцать лет. Но мне не нужна его дочь. Я живу в городе, мне негде поставить ее конуру. Она прекрасно поживет под кроватью, говорит он. У вас высокая кровать, господин? Я киваю. Она может жить и в шкафу. Но я не смогу ее кормить. Это и не нужно. Мы оба понимаем - она не жилец. Поживет месяц - и пожалуйста. Отличная девка. Почему тогда две губы всего? Сама она губастая? О, да. А две губы - так буйная она. Но господин справится, он сильный. Буйная? Так даже интересней. Я соглашаюсь. Мы идем к нему. Утренний псевдотуман перестает нас окутывать, уходит. Немного солнца появляется в небе. Мы идем по деревне. Деревья приветственно шелестят. Ветерок. Иногда то тут, то там хрюкает свинья. Мы входим в его дом. Его брат приводит девку. Она среднего роста. Загорелая. Под ее хламидкой видны твердые маленькие груди. У нее сильные ноги. Интересное лицо. Голубые глаза, темные волосы. Губы. Я никогда не видел таких губ. Большие, выразительные. Но твердые. Такие не подвластны трупному окоченению. Пастух дурак. За такие губы можно получить штук десять, причем отличных, негритянских. Мне везет. Отвезти ее чуть подальше, отрезать губу и пусть идет обратно. Я быстро расплатился и повел за поводок. Ее зовут Астри, зачем-то сказал пастух.
Дорфман умер
…ибо Мир любит Мрак
Мани
Дорфман умер. Весть о трагической кончине Саши Дорфмана. Что вы делали, когда умер (он)? Что? Что-то делали? Делали и делали. Итак. Жил-был Дорфман. Вскорости Дорфман умер. Страшная, непонятная смерть. Почему так? Из жизни уходят самые лучшие, самые светлые люди. Он подавал надежды. Давайте я подам вам надежду? И подавал, подавал. Печально-то как все вокруг. Немного горести поутру. Всем Дорфмана жаль, все скорбят.
В моем институте, когда кто-то умирает, об этом незамедлительно сообщается. При входе, в холле, около колонны, столик, на нем кусочек красной материи (один и тот же? Его стирают или нет? Каким порошком пользуются?), четные гвоздики в вазе, небольшое сообщение, фотография. У Дормана фотографии не оказалось, он боялся фотографироваться, считая, что теряет таким образом немножко души (души светлой, души прекрасной). Дорфман был оригинальным человеком. Все умирают трагично, рано уходят из жизни и вообще все мертвые замечательные и чудесные люди, у них много заслуг, регалий и друзей. Только я живой мудак. Что я делал во время смерти Дорфмана? Где я мог быть? Пил, курил, ублажал разномастно плоть? Что-то делал. А Дорфман возьми и умри. Стою, смотрю на бумажку, о смерти Дорфмана возвещающую. Хожу кругами. Горестный взгляд проходящих. Или стыдливо глаза прячут (их выражение) или охают, ойкают, выражают скорбь и сочувствие. Загрузиться донельзя смертью Дорфмана. Пусть его смерть меня изменит. Заставить себя ощущать утрату и немного поплакать, стать другим человеком после. Измениться. Смерть Дорфмана оказала на меня неизгладимое впечатление. Что вас подвигло к деятельности благостной, той что занимаетесь Вы? Что? Смерть Дорфмана? Сразу стать сознательным, хорошим и нужным обществу, подружиться с ним, слиться в экстатическом обмене бумагой. Что-то чувствовать. Прийти на кафедру, где покойный обучался основам. Я пишу очерк о смерти Александра Дорфмана. Что вы можете сказать? Смущенная лаборантка. Что-нибудь да скажет. Написать эпитафию. Составить некролог. Поддерживать его семью, стареющую, мгновенно поседевшую (буквально на глазах) мать (можно я буду звать Вас мамой?), приобнять младшую сестренку. Принести собачке косточек. Я не знал его при жизни, так жаль. Сладкий мертвый. Последние дни Дорфмана, пьеса в четырех частях с эпиграфом из Фуко. Почему из Фуко? Классик. Писал эпиграфы. Все силами студентов и друзей покойного.
Или блевать на столик с вазочкой. Напившись дурных напитков. Захотев срать, подтереться сообщением о смерти Дорфмана, похитив это сообщение темной ночью заранее. Отъебать старуху мать и отпиздить маленькую сестренку. С отцом, Дорфманом-старшим, Дорфманом живым, не здороваться. Никогда. Принципиально. Написать эссе “Дорфман и бляди”, с привлечением данных эмпирического обследования блядей. В молитве упоминать в числе тех, что “за здравие”.
Мы любим мертвых, мы все некрофилы. Сочувствуем мертвым, почитаем их и землю ими грязним, равно и огонь священный тайный. Этот вечный хрипловатый стон при сообщение о гибели кого-нибудь, о катастрофе или аварии, или просто о кончине. Простая такая кончина. Ежеминутная кончина. Но трооогательно. А живые проблематичней мертвых и умеют говорить, чем иногда пользуются. Конечно, просто быть циником в отношении неродных, но глупо сострадать незнакомым, при том образе жизни, что мы ведем, и при той степени любви к ближнему, которой обладаем.
Дорфман закончил свой путь. Чистым или грязным, не сообщается. Говорят, что трагично. Где-то и как-то. Может быть, он умер и мы убили его? Может быть. Зачем нам Дорфман? Какая от него польза? Он органичен в гробу. Пусть поспит. Это не мы умерли. Или наоборот мы, а не он, но пути наши разошлись.
Пока я ходил кругами вокруг семидневной святыни, мне сообщили, что Вовка пьет на крыше, восхищаясь сладостью и неожиданностью раннего весеннего солнца. Вовка пьет различные интересные напитки и дружит с совращенными ранее девочками. Все дружат с совращенными девочками, но может, сегодня не стоит? Солнце светит само по себе. Я пойду на крышу, буду еще ближе к солнцу. Не буду загружать себя Дорфманом больше, не буду действовать и творить, тем самым приближусь к оному Дорфману в его нынешнем безделье. Потом я шел на крышу некоторое время и еще чуть-чуть держал Дорфмана в мозгу. Дорфман умер. Человек, который интересен тем, что его нет.
Писатель и история
Писатель пристыженно смотрел на волны, смущенный их прерывающимся великолепием. Как выразить словами клочки пены, как передать абсолютность момента? Можно ли поместить в словесную клетку лучи солнца на зеленоватом гребне волны? Писатель думал об этом, лишая себя солнца. Ему очень хотелось чего-нибудь выразить, облечь словами сокровенное. То сокровенное, что, сидя на берегу моря, он так ясно понимал внутри. Я посмотрел писателю в глаза. Его схематичные, синие глаза-точки смотрели на меня без выражения. Я отвел взгляд. Иногда убогость очень приятна. Именно такая убогость была вокруг, на выставке.
Мы шли по летнему курортному Питеру, мимо замороженных туристических артефактов. Справа вдруг оказалась дверь и афиша. На афише значилось, что за дверью – посмертная выставка, посвященная писателю Босявкину. Фамилия Босявкин приглянулась пьяному сознанию, и я повлек своих индифферентных к происходящему друзей за дверь. Выставка оказалось бесплатной. Она вся проходила в одной небольшой комнате: там были картины, книги писателя, личные вещи. Две женщины: одна сидела и что-то записывала, другая возбужденно ходила по комнате с видом знатока. Презрительно улыбаясь, я встал перед одной из картин, стараясь навести резкость, и увидеть за цветовыми пятнами смысл. Но картина оказалось абстракцией – даром друга писателя – художника-абстракциониста. Женщина, та, что ходила, заговорила с нами.
- Простите, откуда вы узнали о выставке?
- Мы просто шли, нас заинтересовало…
- А вообще фамилию Босявкин слышали? Наверное, книги-то хоть видели?
- Да, - согласился я. - Что-то знакомое.
- Он был очень популярен лет двадцать назад. Детский писатель. А я, я журналистка, я пишу… А это, - она показала на сидящую женщину, - вдова писателя.
Мы скривили улыбки в направлении вдовы. Стараясь особо не дышать, что-то пробормотали в знак приветствия. Вдова, в отличие от журналистки, говорить с нами не стала. Наше пьяное и не особо скрываемое веселое состоянии вдове явно не нравилось. Но журналистка, не обращая ни на что внимания, подводила нас к каждому экспонату, рассказывая о нем, о Босявкине.
- Босявкин был первым, кто начал так писать. Он обогнал свое время. Тогда так никто не писал. Тогда требовался реализм, реализм, компренэ? А Босявкин был минималистом. Вот смотрите, как он описывает встречу Пети и зверя.
В руках журналистки все это время была книга. Она открыла ее и зачла: «Петя шел. Кругом – ночь. Кто-то зарычал вдали. Это зверь. Зверь подошел к Пете и сказал человечьим голосом: «Петя!..»». Мы закивали в подтверждение мастерства и новаторства Босявкина.
- Сборники его рассказов: «Петя и Зверь», «Число», «Шестью шесть», «Учат в школе» были переведены на пятнадцать языков. Босявкин… он... ему не давали публиковаться. Его зажимали. Никто так не описывал природу. Лес.
Мы еще немного походили. Потом мне стало совсем стыдно за все мои внутренние смешки, пьяное дыхание и нечестность, мы попрощались и ушли, не приняв в дар книгу Босявкина, которой журналистка хотела нас благостно одарить.
Некто Ван Би ставил Конфуция выше Лао-цзы, хотя был лаоистом. «Конфуций не писал о том, что словами выразить невозможно. А Лао-цзы говорил о сокровенном, для передачи которого слова непригодны». Впрочем, никакого отношения ни к этому рассказу, ни к Босявкину это не имеет. Тем более что Ван Би был китайцем.
Босявкин поднял глаза и посмотрел прямо в солнце, смотрел так до рези в глазах. Но истина не пришла к Босявкину. Он поднялся и пошел по направлению к пансионату, геморрой доставлял при ходьбе боль. Истина не пришла. Она не из тех, кто ходит. Вместо того, чтобы смотреть, Босявкин пытался описать явление. И душа его еще бродит по земле, ища следующее глупое тело.
Близнец
У друга Максима на даче я часто бывал в один из периодов моей жизни. Однажды мы пили водку большой компанией. Вдруг я встал и пошел в подвал. Я вообще люблю скрытые места, темные места, с запахом сырости и забытой жизни, с непонятными предметами. Я думаю, там можно поживиться истиной. Как будто в подвале может быть истина. Вот я спустился в подвал. Там действительно пахло сыростью, лежали умершие от химикатов крысы (или я думал, что они там лежат), разная мебель стояла и вещи, не употребляемые никем. Еще много книг я нашел и стал листать некоторые. Был поздний вечер. На улице, возможно, полнолуние. Сейчас мне кажется, что это было осенью, я люблю осень.
Книги были преимущественно религиозного содержания, даже атеистического. На нижней полке шкафа (а был шкаф, где книги я разглядывал) в ряд стояли “Апология Живых Евангелий” в 18 томах Бакрынского, ”Почему Бог умер” группы славистов Университета и ”Смерть и Девы” какого-то римлянина, обладающего большим и сложным именем. Еще несколько листов, желтых, естественно, и перевязанных белой нитью (я белое люблю). Эти листы я стал читать. Заглавия не было, текст был на старославянском, который я иногда понимаю немного, сильно порченый влагой всякой. Текст иногда прерывался, то из-за пятен непонятного происхождения, то сам по себе. Это был какой-то вариант знаменитых “Деяний Иуды Фомы апостола”, сирийского апокрифа, который я, в институте учась, читал, поэтому узнал. Вот что примерно было там написано:
“…И ударили тут Фому крепко и сильно, и упал он и не вставал больше. Так закончилась жизнь земная Фомы апостола индийцев, одного из двенадцати. И сказал Фома перед смертью: “Истинно говорю я, я истину возглашаю. Слава Тебе, брат мой небесный, что ведет меня. Спасибо Тебе за милость Твою и благость, что внутри меня. Жил я (какое-то время) и умру сейчас, чтобы жить жизнью вечною, как обещал Ты мне. И скажу я вот людям этим (что стоят тут): знайте, что соединюсь я с братом моим, равно как и он (ранее) соединился со мной. И буду жить я жизнью вечною, ибо хочу этого. И с каждым, что захочет, так будет. И райские цветы я трогать буду, ибо позволено мне. Но я хочу сказать (и скажу вам), что суть второй я, и нет учеников кроме меня, равно как и учителей кроме Него. И открыл Он мне смысл жизни нашей, и слова тайные сказал, и тем самым я стал равным Ему. И природа наша с ним одна, но знание наше различалось. И сказал Он три слова мне перед уходом своим, и вам сейчас скажу я их. Но знайте наперед, как дело то было. Он по воде шел. И жажду питал, и воду пил ту мертвую. И испив не умирал, но пил дальше. И смотрел Он вовнутрь моря того мертвого и трогал воды его вечно спокойные, и видел там лицо свое (одно из двух). И увидев лицо свое в воде, Он потерял его, и то лицо затем я обрел, и я (таким образом) стал. И не смог более без меня, когда живописал меня. Но я мог без Него, ибо был изначально человеком (природой человеческой обладал) и мог по-всякому (и также мог таким образом)… и потом шли мы и он учил, и пока он учил, Он терял, а я, я обретал, и потом Он потерял (их) и умер (здесь), а я обрел. Но перед смертию своей Он живописал меня во второй раз, отдав лицо второе Свое. И слова тайные сказал. Вот они: ”И..[…]”… Славься Отец и брат мой, скоро отдам Тебе то, что взял на время, а ты дашь мне то, что навсегда… в Царствии Твоем”. Еще деяние такое совершил Фома, когда на небо смотрел. И смотрел на он небо, Фома этот, и не было в небе ничего. И ученик спросил Фому: “Как же смотришь в небо ты, если в небе нет ничего. Как видишь ты то, что невидимо (и вдруг ты видишь это)? И еще: один смотрел и сокрушил то взглядом, и сокрушится ли небо, если…?” И сказал Фома: “Открой глаза и увидишь, ибо глаза даны тебе не только чтобы видеть, но и для того чтобы не видеть. Когда ты глазами видеть не сможешь, то я спрошу тебя: чем смотришь ты? И ты отойдешь в ужасе. Но посмотришь ты (затем) и увидишь невидимое, ведь глаза твои… а небо упало на землю, и прахом облака стали, и если не знаешь ты этого, то как можешь знать ты то, что я сказал тебе (ранее)?”. И ученик поклонился, и Фома крестил его, и спасся ученик затем. И славили они Бога вместе на горе этой (ведь на горе стояли они). Так Фома ученика спас для жизни вечной, и не умер ученик затем. Еще шестое деяние, что Дидим совершил в стране той. И женщина больная была. И больно было ей. И пришел Фома и сказал ей “Встань, ибо рождена ты для жизни вечной,.. и в тлене вязнуть прекрати. Встань, ибо молился за тебя, и надо мне”. И встала женщина, так как и сказал ей Фома этот. И Христа славили все кто был там, и многих покрестили в тот день. Еще было, что демон Фому искушал, но Фома напомнил ему, демону, разговор с Ним, и указал демону природу его, и плача ушел демон, говоря: “Не смог я совратить я Фому того, что проповедует это, как домой попаду я?” Так демон посрамлен был, а Фома пятое деяние совершил. Деяние четвертое Иуды Фомы апостола. Спросил Фому царь один (что был там): “Как Бог твой оставил тебя?”. И смеялся Фома, и говорил “Со мной Бог мой”. Но царь не понимал (этого). И проповедовал Фома народу тому и вот что говорил: “Славься Царь наш истинный что во мне и надо мной, а внизу нету Тебя. Так как внизу грязь великая. Помилуй нас, рабов Твоих, и от грехов и искушений уведи. Чтобы жили мы жизнью чистой и чистыми вошли в дом Твой… грехов страшнее всех стяжательство, богатство еще… знатные… и бедных справедливо любишь Ты. Бедные… ”. Потом Фома к царю тому пошел и увещевал его долго, и царь все, что имел, все людям раздал, ведь Фома дочь его излечил. И царь радовался затем. И царствие его к небесам стремилось, и все кто жил там, радовались, и… Такое еще деяние совершил Фома апостол, один из первых, что удивились все, кто стоял там, ведь чудо было это. И потом спросили его, как он… и ответил Фома тот: “А так вот”. А Фома вот сделал что. Он хлеба кусок просил, и не давали ему, и гнали прочь. Но кто-то все же дал ему. И Фома созвал всех и хлебом одним толпу (тысячу) накормил, и даже тех, кто не подавал тогда ему. А сам не ел и лишь молился усердно и Бога своего славил, ибо любил Его, а еще… Им. Так делал Фома апостол этот. А второе деяние еще Фомы апостола, что индийцам сделал он. Один стоял там и колдовал часто, а Фома его крестом прогнал. А он (колдовал что), много бед вызвал, и засуху даже… и молили все Бога этого и дал им Иисус воды много. И сказал Фома: “… во веки веков так”. А вначале, в страну ту прийдя, вот что Фома сделал, как явил Бога всем и деяние свое первое совершив там. Было мало… а Фома молился усердно. И много стало… и радовались все, и молились. И идола затем низверг, когда уверовали в Бога все. И так было. Вот первое деяние Иуды Фомы апостола. Деяния Иуды Фомы (Дидима) апостола индийского, одного из двенадцати, когда в страну он ту пошел и проповедовал это там…”.
В некотором экстазе я вышел из подвала. Бытие было легким, я мог пощупать его влажную субстанцию, казалось, еще немного, и я прикоснусь к изначальным законам жизни, или еще чему умному и скрытому. Я захотел всех порадовать находкой, и, возможно, читать произведение вслух. Да что там! Я почти ощущал себя Иудой Фомой, близнецом Его, апостолом. И всякие мысли об инкарнациях меня наполняли. Люди, мои собутыльники, спали или трахались (девушки тоже имелись), или, как говорил Фома апостол, прелюбодействовали и грехом разным занимались. Другие, кто не спал и не трахался, просто были с закрытыми глазами, и говорить им было бесполезно. Я решил все рассказать завтра, что понял рассказать (я думал, что я многое понял), а сам пока пошел спать. Впервые за долгое время заснул трезвый, среди пьяных. И думал еще, что я - как апостол древний среди зверей диких. Так книги влияют на души неокрепшие и трезвые.
От чего я проснулся – от солнечного луча на лице или от звуков утреннего блева, не знаю. Народ, пережив ночь, готовился заранее к еще одной. Кофе натощак. Я подошел к Максу и стал рассказывать о том, как книжку вчера читал, и что она меня сильно взволновала. Максим вначале с нотками полустеба приводил неверные цитаты из синоптических евангелий и упоминал то Борхеса, то Будду и пытался параллельно рассказывать мне про свой экспириенс с анальным сексом этой ночью, что меня тоже интересовало, но я старался не проявлять заинтересованности, как-то боялся слушать сейчас об этом (вроде упустить нечто важное из настроения не хотел). То ли я думал о своей миссии, то ли о том, что у меня наконец появилась миссия, не знаю сейчас. В итоге мы спустились в подвал. В подвале я уже все рассказал ему, и он делал вид, что все услышал. Мы подошли к шкафу, но ни на нижней полке, ни рядом, ни в подвале вообще листов давешних желтых с текстом “Деяний…” не было, равно как и трупиков крыс, умерших от химикатов. Я думал, мой друг будет меня высмеивать и всем рассказывать о моей дурости и неумении пить. Он спокойно дышал перегаром мне в лицо и чесал себя то там, то тут. Потом сказал: “Разное бывает в жизни этой, также как и в другой, если она есть. И не все можно рассказать другим и показать тоже. Не в каждую реку можно войти дважды, только в болото”. Я спросил, верит ли он мне или это был мой сон. “А есть разница? - спросил Макс. - Странные вещи происходят в мире, потому что странен мир по природе своей, и мы пытаемся упорядочить его, потому что многие боятся сойти с ума от ужаса истинности”. “А я схожу с ума?” - “А есть разница? - повторил он. – Я думаю, ты не сходишь с ума. По крайней мере, что это за ум такой, с которого можно сойти?” Потом он спросил, не хочу ли я кофе, и я захотел, и мы стали подниматься по лестнице из подвала. Я вдруг услышал голос: “А слов тех тайных, их не услышишь ты”. Я испугался. Но, думаю теперь, это не был голос Иуды Фомы или Близнеца какого. Это вообще не был ничей голос, думаю, как раз именно это мне послышалось. “Помнишь, - спросил Макс меня, когда мы пили кофе, - как ты в лесу потерялся и долго блуждал?” “Нет”. “И я почти не помню”. Затем мы сидели и молчали, и день был теплый и светлый. И Свет внутри есть.
Симон, Симон и Павел
Симон Маг, или Черный Петр восседал на облаке, радуясь собственной важности. Облако летело в Рим. Симон был не стар. Голос, такой, какой мы иногда слышим, воззвал:
- Симон, Симон, почему ты гонишь меня?
Симон как будто ждал Голоса.
- Я не гоню тебя. Но я хочу говорить с тобой, а не слушать.
- Но ты хотел купить меня.
- Тебя часто покупают, нет?
- Покупают веру.
- Да, но не истинную веру. Теперь я знаю это.
- Ты не хочешь быть бараном в стаде моем?
- Бараном хочет быть только баран. Вернее, только баран может быть бараном.
- Ты хочешь служить Дьяволу?
- А разве он существует? Служить Дьяволу - все равно что служить Тебе. Это значит признать наличие божественной воли.
- А разве ты не инструмент в моих руках, Симон? Разве ты не летишь в Рим, навстречу своей гибели и позору? Разве ты не существуешь лишь затем, чтобы показать мою силу?
- Сильному нет нужды показывать силу.
- Это так. Однако ты послужишь этой цели. Человек, простой старый человек, не отягощенный знаниями и опытом, обычный человек сокрушит тебя Словом Моим.
- Так. Но лишь бросив вызов истинной вере, я смогу до конца понять себя. Я маг, я обращаюсь с природой и Богом, как с равными. Мне нет преград. И только человек с истинной верой внутри сможет победить меня.
- Ты не хочешь войти в меня? Стать с моей паствой? Войти в вечность, а не прослыть в качестве глупой аллегории? Стать над всеми моими рабами?
- Это скучно. Вечность кончается там, где она и начинается. Я благодарен Тебе, что есть жизнь, конечность которой подразумевает возможность творить. Творить и бороться. Ты сам мне более ничем не интересен. Но люди с верой, они мне интересны. Интересны в плане того, как я сам проявлю себя.
- Лети, Симон, я более тебя не задерживаю. Лети в Рим. Лети в будущее.
- Я не боюсь будущего, я знаком с ним. Вот только ты воспользуешься прошлым, которое каждую ночь кто-то крадет у меня, над прошлым я не властен.
Но Голос молчал. Облако висело над Римом. Симон приготовился спускаться. Потом задумался и сотворил жест. Явился ангел.
- Привет, пташка, - сказал Симон.
- Ты звал?
- Да, Натанаил. Я хочу знать, почему я не вижу апостола Павла внизу.
- Он мертв, Симон.
- И как произошло?
- Я скажу, - пропел Натанаил. - Все дело в апостоле Петре. Петр, что.., - ангел испуганно огляделся.
- Говори, - приказал Симон.
- Петр, что намного хуже Иуды, так как предал Его три раза, а не один, Петр, который захочет предать его и в четвертый раз, но будет оставлен Его вопросом, устыдится иумрет перевертышем …
- Будущее известно мне, - раздраженно произнес Симон. - Говори о прошлом.
- Петр, поседевший и глупый, позавидовал славе и влиянию Павла, апостола язычников, его таланту и его силе. Петр восстановил против него общину, и община взбунтовалась, и все свалили на Павла, и Нерон казнил Павла. И небо было пусто. Ты ведь знаешь, что об этом будут говорить?
- Да. Церковные историки и философы будут молчать, кто в удивлении, кто в недоумении от того, что ничего не знают о мученической кончине достославного Павла. Они будут осторожно предполагать, что Павла погубили внутренние распри внутри общины. И будут распространять сказку о его преклонных годах. А потом они найдут документ и спрячут его в глубинах Ватиканской библиотеки. Так?
- Да.
- Прощай, пташка, - молвил Симон.
И ангел, сраженный молнией, сразу как-то почернев, с ревом понесся в ад.
- Ты отказываешь им и в свободной воле, и также гневаешься, когда они подчиняются моей воле, - обратился Симон к небу.
Потом Симон спустился с помпой, и встретил там Нерона, и показал Нерону чудеса. И простой народ боготворил Симона. Петр был рядом. И Петр вызвал Симона на поединок. Симон взлетел над землей, и все содрогнулись. Однако вера Петра была истинной, и воля, которая была в нем, была Божья. И Симон упал на камни. И потеряли все к Симону интерес, полагая, что он разбился. Однако это было не совсем так. Он потерпел неудачу. Но постиг, нет, не смысл жизни, но смысл Бога. Он проиграл и потерял интерес к полетам, превращениям и прочим магическим фокусам. Но более никогда не заставлял ангелов служить ему. Он поселился в лесу и очень полюбил белые грибы.
Магия, как натуральная физика, как доступ к управлению природой и высшими силами, магия, когда смысл жизни можно понять, правильно подняв соответствующую руку, может проиграть только одному. Не Богу. Но истинной вере, проявлению божественной воли в человеке. Вере, не вере масс, вере от скуки и вере от страха, но вере кристальной, вере полной. И воле – воле создателя в Его творении. Вот кому может проиграть маг. И если он не отваживается на поединок – он жалкий фокусник, а если отваживается – объект для насмешек последующих поколений.
Павел умер и в Раю. А Петр, Петр грешник, способствовавший умертвлению Павла, предатель своего Бога, человек ограниченный и глупый, Петр носит ключи от Рая и всячески Господом обласкан. Таков этот мир, таковы его законы. Так Он создал его. Если принять эту версию за истинную, все именно так. Возможный выход тут – в изначальном понимании белых грибов через их съедение. Впрочем, на месте грибов, как и на месте Бога, может быть любой белый предмет.
Реализм для самых маленьких
Младенец Петр лежал, повернутый главой книзу. Кровать скрипела, побуждаемая снаружи. Сейчас мать расскажет сказку.
- Жили-были, - бесстрастно сказала мать, – и там было всякое. Кругом пустыня, пустыня внутри, пустыня снаружи. Холодная пустыня. Вокруг – никого. Вот входит старушка-ватрушка. Жизнь налаживается. Где были вчера голод и страх, сегодня выступает с лекциями профессор Белановский. Вчера было вчера, и завтра будет. Протяжный скрип дверных петель привлекает летучих мышей, так говорит профессор о реализме. Старушка, стоя в пустыне, достала волшебную палочку и давай волшбовать. Приворожила старушка мышь и мышь стала привороженная и улыбается. Полетела мышь в сторону. Сторона посторонних, ранимых людей. Отыскала мышь профессора Белановского. И ну его целовать. Целует-целует – поцеловать не может. Так и умер профессор Белановский нецелованый, в летах. Канул профессор в Лету и сидит, круги пускает. Словно большая одноглазая рыба. Рыбы бывают одноглазые и двуглазые. Таково их разнообразие. Вот часы бьют полночь, обезумев, - продолжала мать, возбуждаясь - и несомненно что-то происходит. Мышь, ведомая половиной ночи, во вторую вступает. К старушке летит. К колдунье идет. Приходит – а нет старушки. И пустыня вокруг – холодная пустыня чужих страхов. О, нелегкая мышиная доля! О, разочарованье. Зарылась мышь в песок и лежит расстроенно. Петух поет трижды, но у мыши – ни голоса, ни слуха. Петух поет трижды по особенным случаям – но голос мыши никому не нужен. Лежит мышь, на мордочке – печаль и злость. Начинается песчаная буря. Летит много песка. Мышь оказывается под песком, где гибнет, так как обучена дышать. А там нельзя. А что же старушка? А не было никакой старушки! Мало ли что привидится в далекой пустыне, да еще мыши, которая никогда не отличалась хорошим зрением. - Мать посмотрела на Петра со значением. Затем продолжила. - А мораль? Морали нет. Это аморальная сказка. В реальности не всегда есть смысл, в отличие от божьих проповедей. Потому как проповеди божьи искусственно сконструированы. А если нечто имеет искусственные следствия, то и само, должно быть, придумано. И нет его нигде. Ах, да, – сказала мать, – сказка. Старушка-ватрушка вышла из окна, когда попала в ситуацию, где окно было. Аминь, - сказала мать. – Спокойной ночи, - сказала она Петру. Но Петр уже спал, спал с самого ее прихода. Матерь встала на цыпочки и вышла из комнаты. Вот почему у матери всегда такие тонкие запястья.
Ахура должен умереть
Костру дождь не нравился. Он шипел и плевался, и даже пытался потухнуть. Выказывал всякую неприязнь и крайнее неуважение к падающей на него влаге. Еще меньше дождь нравился нам. Но мы – воины. И мы терпели, не плюясь. Мы лежали по обе стороны костра, завернутые в одеяла, и смотрели друг другу в глаза. Мы общались без слов, чувствовали мысли друг друга, ощущали свои порхающие неподалеку души и улыбались, как будто кто-то из нас хорошо пошутил. Единственное, что нам мешало, это некоторая забывчивость, мы забыли, что собственно мы делаем высоко в горах в холоде и мокроcти. Мы не хотели вспоминать. Оба устали – полтора месяца нескончаемого продвижения и борьбы. Но цель. Иногда цель грела, но чаще мы старались представить себе, что просто гуляем. Сейчас встанем – и дома, и все нас обнимают. Целуют. Тиштрия обнимет многих деток своих. Я сяду на любимом крыльце и под аккомпанемент солнца закурю. Такие штуки нас грели (в отличие от одеял), но недолго. Потом мы вспоминали. Иногда одновременно, иногда один быстрее. Тот, кто вспомнил быстрее, не рассказывал, не мешал немного порадоваться другу. И сам старался момент встречи со знанием отсрочить. Но вскорости, как и сейчас, когда мы омываемы дождем, реальность выступала, довольная своей непобедимостью. И из улыбчивых соседей, овеваемых дома лучами, мы становились воинами, у которых была четкая идея. Цель. Мы идем убивать Ахуру. Ахура должен умереть.
Помню, как дедушка рассказывал сказку. Что умерли однажды старик со старухой. И очутились у моста. Старик (ставший уже просто-напросто обычной фравашей) так сказал: “Иди, старая, вперед”. Старуха пошла, потому что старика уважала. Она забыла, что он боле не муж ей, которого почитать и уважать надо, а фраваши, как и она. Фраваши фраваши рознь. И пошла. На мост взошла, топ, топ. Шла и упала. Старик, делать нечего, тоже пошел. И упал с моста. Тут дедушка замолкал и молчал до тех пор, пока кто-либо из слушавших его детей не спрашивал, все ли это. Все, всю сказку поведал, ответствовал дедушка. А в чем смысл сказки этой, спрашивали. Нет в ней смысла, говорил дедушка, это всего-навсего сказка. А чего это она такая маленькая и скучная, а? Какая есть, отвечал дедушка, такая вот. Истина – лучшее благо, добавлял дедушка и заканчивал на этом общение с нами на некоторое время.
И чего вдруг мне вспомнилась эта ахинеистичная сказка? Здесь, в доме старых камней, в дожде? Вечно эти дедушкины рассказни вспоминаются… А вот как звали ту девочку, с которой мы купались в озере, не помню. Неправильно. Мы купались втроем и часто, и голые. Хорошая девочка. Ее съели. Как же там ее звали. Ей, Тиштрия, брат, как там… Ну да. Надо вслух.
- Ты помнишь имя той девочки, с которой мы в юности дружили? Она нам еще первая всякие женские места показывала невзначай? – спросил я Тиштрию.
- Не было такого. И вообще, озяб я, - сказал Тиштрия.
Ну да. Он вообще все забыл.
- Слушай. Мне сегодня бог приснился, - Тиштрия сказал.
- Да? И как он выглядит.
- Как на картинке, один в один.
- А ты это к чему?
- Так. Чтобы знать, что я не один, страшно малость.
- Так я же только что тебя спрашивал о девочке, суть говорил.
- О какой девочке? Не было такого.
Надо сказать, что Тиштрия в последнее время очень раздвоился. Двумя стал. Это где-то неделю назад началось. Причем ни один из двоих не знал о существовании другого. Или показывать не хотел. Один был друг мой, Тиштрия, а второй… Второй там тоже был, и это все, что я знал.
- Ты опять был не собой, - рассказал я Тиштрии.
- Да? Плохо. И о чем ты спрашивал, что за девочка?
- Помнишь, мы с девочкой играли все время в детстве, обнимались там? Подруга наша.
- Да.
- Как звали ее, забыл.
- Энси.
- Это что за имя такое? Странное.
- Так родители назвали. Бывает. Ее съели, помнишь?
Я помнил. Еще вспомнился дедушка (достал). Он однажды увидел, как Энси (или как ее там?) показывает нам свое тело. И давай рассказывать. Мол, если юноша смотрит на молодую девушку, не жену ему, не родственницу и не мертвую, то у него у самого груди вырастут. Тут мы были не против, но не за. Кроме того, мы привели дедушке несколько примеров, когда мы точно знали, что некто видел (и еще чего-нибудь) тело девушки не своей, а груди не росли. Тогда дедушка расстроился. Взял палку и побил нас. Мы ему пытались возражать на это, что истина лучшее благо и т. п., нельзя нас бить. Но он все же.
Ночная вода
Люди похожие на воду вошли в мой дом. Они хотят пить. Вы Алексей Радов? Сейчас мы сделаем из вас босяк. Знаете, Алексей, у Вас мертвый мозг: мыслить Вы им можете, а гопак – нет. Не хотите гопак? Хотите все, но не как старую печаль? Хотите вон, хотите прочь, хотите ночь. Сейчас мы будем Вас есть. Думаете понять, как Вы думаете? То есть не понять, а «постичь». Постичь, конечно, проще, никаких усилий не надо. И уже не думаете, уже полагаете, что Вы – человек. А мы пришли сказать, что Вы – срань.
Внутренняя пустота
Это было в конце лета. Я сидел дома и скучал. Я был полон добровольным одиночеством. Я философствовал и страдал. Ничто не влекло. Ничто не звало. Не на что было посмотреть. Я мучился щемящей внутренней пустотою. Внутри меня все ссохлось, все замерзло, все пало. Конечно, я немного наслаждался этим чувством отверженности, этим своим охлажденным рассудком. Эдакою своею вольной душой. Но внутри все пусто: ничего не хочу. В один из дней позвонила моя бывшая девушка. Она вернулась из Крыма. Девушка хотела «увидеться». Девушки иногда просто хотят увидеться, у них, у девушек, есть некоторая самонедопонятость. Ну, приезжай, сказал я. И она приехала. Она была вся размалевана-разодета, как-то совсем некстати моему экзальтированному опечаленному состоянию. Я встретил ее у метро. Мы шли, «гуляли», многие девушки врубаются «гулять». Я немного стыдился ее, и стыдился этого своего чувства. Мы всегда стыдимся тех, кто хоть немного наружу, наружу иначе чем все остальные. Так и меня стыдятся мои знакомые. Она сказала, что там, в Крыму, влюбилась в девушку. Ха, ты стала пидарасом, весело воскричал я. Педерастия моей бывшей девушки вкупе с ее нарядом заняли весь мой разговор. Я вообще часто иронизирую в разговоре, но тут я особенно старался. Надо сказать, что вся моя внутренняя пустота дополнялась двумя месяцами нетраханья, что для жаркого лета воспринимается тяжко. И мы зашли ко мне домой, и я приставал к ней, и она хотела. Она хотела, но не давала, потому что любила другую девушку, потому что считала, что любит другую девушку, потому что считала, что сейчас дать будет немного не к месту. Но я упорствовал, а она, надо полагать, текла. И потом мы трахнулись. И, какая незадача! Ей уже надо было «бежать», и она бежала, и убежала. А я сел к окну (хотя мог сесть куда угодно). И тут мне стало совсем плохо и неприятно. Я себе не нравился, что со мной бывает крайне редко. Я думал, что вот, значит, приходит ко мне девушка, такая восторженно-неряшливая и трогательная в своей любови (нет которой, есть – не важно). Приходит девушка, и тут я – со своей человеконелюбовью и грустью летней. Тут я, со всей своей внутренней пустотой и тоскою. И я, не верящий уже и в то, что вера возможна, я рушу ее фантазию, я бью ее фантазию. Я слаб, организм подсел на траханье, и я убиваю самое дорогое, что может быть у порядочного, но не очень сильного духом человека – его иллюзии. Я пользуюсь ее слабостью, я, проповедующий внутри себя безумные красоты и гармонию. Я – общий добрый друг и честный мизантроп. Она нашла себе что-то, чем занять увядающий у каждого рассудок, потешить, и это тешенье я ломаю. Она нашла что-то, чтобы не видеть безумья мира, – это ее право – закрыть глаза. И вот я сижу у окна (у окна сидеть так красиво, куда лучше, чем на стуле!), я сижу у окна и смотрю в небо. Я, охваченный жжением внутренней пустоты. Сижу я со всей своей пустотою и ругаю себя. Я смотрю тогда в небо, и небо привычно полупустынно. На небе – его половина, а внутри меня - ничего, ничего интересного, только недоломанный мною я.
Причины моей ненависти
Юноша прыщавый с гитарой робкий
Обмен поцелуями – слизистое безумие
Моча струится по улице, глотки разверсты
Путь выпит, душа здесь мерзнет
Девочка хочет лифчик, платье розовое, синтетика
Невинный щебет, птицы улетели
Мысли разрезаны на неравные куски
Уши не слышат, возможно скоро
Внешнее уродство и борьба с ним
Обожествление предметов не имеющих сакрального значения
Маша вчера умерла. Очень хорошо
Чем больше маш умрет, тем меньше нужно патронов
Холодное утро. Первое солнце. Чей-то взгляд я чувствую кожей. Кожа розовая и тихонько гордится этим. Где-то идет дождь. Где-то никого нет. Запах матки. Слизь. Я - Алексей. Прохладным утром в кресле сижу, смотрю на далекий лес. Встань и иди! У кого есть ноги, тот должен ходить. Утро неожиданно. Радуюсь хлебу. Пища проста, мир незнаком и приятен. Надо мной есть дерево, я слышу шум его высоких веток. Нюхать мох у корней. Свежую траву. Чавкая есть землю, так чтобы черный сладкий сок тек по щекам. Лес? Вдалеке. Утром, сидя под деревом, можно, быстро обернувшись, увидеть ангела, он не так быстро бегает. Дерево шумит.
Ты любишь? Ты не любишь? Меня?
Я ненавижу
Коллективные попытки понять смысл жизни
Время и песок
Часы и закрытые глаза
Закупоренные люди, люди в целлофане
Мне, пожалуйста, два килограмма
Два килограмма чего?
Два килограмма. Просто два килограмма
Вечно вижу спины
Левый-правый, правый-левый, промах-цель
У меня не растут усы
И в метро все дышат стыдливо, и пахнут грязью
Куда же ты? Я не вернусь, это плохая привычка.
Горы видел? Видел
Реки видел? Видел
Камень Симон, у кого ключи, тот и прав
А потом кто-нибудь войдет и скажет
Язык хрупок
День выдался теплый. Пыль сплелась в воздухе, подчеркивая его. Скучно. Сижу под деревом, полдник. Завтра будет новый день, очевидно. Более теплый? Завтра нет нигде. День существует для замаливания грехов. День придумали не для меня. Скучно, жарко, ветра нет, дерево не шумит. Лес в пыли.
Живой Бог
Бессмысленность теодицеи
В укусе гадюки эликсир бессмертия
Религия как слабость
Молитва за унижение
Бог живет вдали
Прочие боги играли друг с другом в прятки, да так, что один другого не нашел
Так спрятаться и мне
Холодный вечер, старый воздух. Борьба, удары, стрельба по недвижимым мишеням. Я вышел из дома, стараясь сосредоточиться. Воздух пел. Улица пустынна. Встреченный мной прохожий не выдержал моего взгляда, вот умер. Прошел слух. Улица петляла, стараясь разгадать себя. Груши были еще не спелые. Так я и шел тогда, все дальше удаляясь от леса.
Таковы причины моей ненависти, когда я спокоен.
Пята
Где-то на задворках мироздания он уничтожал неполноценных детей, устало улыбаясь. Кто-то входил и уходил, ища себя в этой жизни, принося струю холодного воздуха, а то и несколько струй. Было пусто все. Лишь ванночка с водой и ящики с детьми при входе. Вода сверху, сырая, вода снизу, грунтовая, вода посередине – живучая. Позвонки болели один за другим, смещаясь то вправо, то влево, руки высохли и являли собой анатомический манифест. Живот, сознавая свою ненужность, приобрел желтый оттенок, сморщенную видимость и совсем ввалился. Дети плакали и стонали, неполноценные дети в страхе. Дети уничтожали его нервную ткань, его психическую суть. Дети съедали его годы. Нытье и жалобы подорвали его веру в людей, плач, слезы и постанывания были причиной неврастении. Внешний вид детей разбил вчерашний его идеализм. Нету идеализма. Все это ахиллесово производство (а он держал за пятку) разовых полубогов медленно убивало его. Но всех рано или поздно, медленно или быстро что-то с переменным успехом пытается убить. Разве разница, как? Он привык, и помимо всего, кроме него никто существовать таким образом не стремился. Когда-то он умер. Птицы унесли его, мягким весенним свистом целуя, на гору, что вдалеке. Птицы унесли и он там лежал. Еще не мертв, нет. Но скоро. Небо было близко, и высохшей своей рукой он гладил небесные прожилки и впадины, дивясь синеве видимого. Пара одиноких козлов, бесконечно ищущих траву, наблюдала его там. Наблюдательные чудные козлы! Потом были козлята. Стал ли он козленком, неизвестно. Но козлов перед смертью видел. Кстати, он уже умер.
Ящики еще полностью плюшевых, ненастоящих и нарисованных, малополноценных детей все стояли в сырой комнатке, где стояла ванночка. Живая вода булькала, намекая на свою амврозийность, приливисто зовя деятеля, желая выполнять свою сущность. Потом пришел один, все сжег, ничего нет там. Больше не рождаются дети, лишь седовласые боги-патриархи правят вдалеке. А этих нет. Вам нужны дети? Больше нет. Не приходите завтра, дети кончились в принципе. Не производят, не спасают, не облагораживают. Плохо. Совсем бессмертные интересны менее, их глазницы пусты – они все видели, их уши полны просьбы, руки отдыхают на коленях. Некоторые устают за семь дней. Другие держатся веками (Вий?), в конце концов устают все. Я вроде знаю, что последний полубог умер от гвоздя. На гвоздь нанизали пятку, как бисер на леску. Пятки. Думаю, у всех есть недостатки. Даже у меня.
Рассказ о Фаршированном перце
(включая интерлюдию, внутренние рассказы №№ 1, 2, 3 и эпилог)
Москва, 2000, ночью
Интерлюдия
"И ты приходишь домой - и раз своей жене по ебалу. А потом ногой в ее жирный живот. И кулаком в рыхлую грудь. Все видит ребенок. Ребятеночек. Девочка. Хочет вырасти и стать блядью. И ей не нравится, что ее мама кричит. А мама орет, как резаная. И девочка начинает плакать. Она думает, ей мать жалко. Ей себя жалко. Детство свое убогое. А ты хватаешься за голову и убегаешь. Ты пытаешься рвать на себе волосы, но это больно. Ты бьешься головой о первую попавшуюся тебе стенку. Ты покупаешь бутылку водки, ты пьешь ее из горла. Половина выливается. Рвота. Но тебе все равно. "Ааааааааааааааааааааааа", - кричишь ты. Ты идешь к другу. Его нет дома. Даже не с кем выпить. Некого изнасиловать. Не к кому прижаться в порыве теплых чувств. Некому почесать за ухом. Ты пьешь и не пьянеешь. Самоубийство - самое легкое, что приходит тебе в голову", - "Это хуйня какая-то, - сказала редактор. - Это ни о чем. Незачем. Не для кого. Злость одна, беспричинная, и много нецензурщины". "А вы это взгляните":
"У тебя болит хуй. Твоя душа. Это хуй. Метафизически. Вообще у тебя нет души, но есть хуй. Значит твоя душа - хуй. Ты сам - еще зигота. Зигота с хуем. Ха-ха. Душа - это что? Это зачем? Это к чему. А это чья душа. Душа чья, мать вашу? Кто душу потерял. Слишком много вопросительных знаков. Слишком мало смысла. Кто вчера убил кого-нибудь? Никто. А чего так. А пацифисты. С душами. А у меня нет души. Только теплая ванна. Где много пены. Хотя это не пена. Это чья-то сперма. Опять соседи еблись. Суки". "Ну, это не литература. Это, знаете, графоманство. Вот. Литературщина. Кто вас обидел, молодой человек? Вы так много мата употребляете, так как у вас в личной жизни неприятности? Это не пойдет, конечно". "В личной жизни? Ну что вы, естественно. У меня, знаете, возраст переходный. Уже 18 лет перехожу. Из пустого в порожнее. У меня это, комплексы, пубертатный период затянулся, - я затянулся сигаретой. - Вы лучше это посмотрите. Бля старая":
"Он поставил свечку на стол и зажег. Потом поставил бабу раком (чем поставил ее в неловкое, по сути, положение) и трахнул. Собственно, и музыку поставил, хуйню романтическую, одни штампы, банальность, ни ей ни ему не нравится, но считается, под это надо ебаться. Атмосферу создавать. А потом пошел дождь и засыпал их домик в горах. Припорошил. Это был их медовый месяц. Он тогда не думал, что будет приходить домой с ленью и бить ее, и бить себя (в грудь), и гордиться своей ничтожной карьерой и никому не известными достижениями, что будет всю жизнь ждать свой гроб. Он тогда вообще не думал. Эту пагубную привычку он приобрел позже". "Что, бля, не нравится?" - спросил я редакторшу. "Это не совсем корректно с точки зрения русского языка, я думаю. Но я даже думать об этом не хочу. Все равно не пойдет. Есть что-либо без грязи, грязи всей этой?". "Попробуем":
"Рот твой полон вина. Ты полощешь им глотку по утрам. Потом ты одеваешь свою одежду. Если есть оная. Идешь работать. А работаешь ты, допустим, в автопарке. Местной давалкой. Сосешь, короче, у всех водителей. Работа такая".
БУДЕТ!
"Депрессия - удел тех, кто не умеет готовить. Причем умение готовить - это не обширные кулинарные познания вкупе с гурманскими наклонностями. Когда ты умеешь готовить, это значит, что ты способен без отвращения поглощать то, что сотворил. Плюс ты получаешь больше удовольствия от процесса превращения продуктов в редукты, нежели от еды. В последнее время, борясь с психологической усталостью и скукой, я приноровился к фаршировке. Это крайне интересный процесс. В ходе него ты проникаешь в святая святых продукта, будь он животного либо растительного рождения, без разницы. Началось все неделю назад, когда я сидел вечером без всякого занятия. Я стал думать. Я думал: "Люди всю жизнь решают проблемы, которые после смерти кажутся им незначительными. Те же, кто остается в истории, совершают поступки не сообразно своим желаниям, а по необходимости". Тут мне стало грустно. Я покурил. Потом попытался почитать КНИГУ, но чужие слова не лезли в голову. Надо что-нибудь приготовить, решил я. Нафаршировать, может? В холодильнике как раз жила пара кальмаров. Я достал их из холода. Стал ждать их разморозки. Пока ждал, выкурил четыре сигареты. Потом я тщательно помыл их и снял кожицу. Один был большим, а другой - совсем еще ребятенок. Я стал готовить фарш: овощи всякие пожарил малость, добавил соленых огурчиков, петрушки, приправ разных... В то время как кальмары уже плавали в кипятке. Они стали пузатенькими. Мне стало их жалко. Они такие смешные, с "крылышками", тушки эдакие. Особенно трогательно выглядел малыш-кальмаренок. Но я не отступил. Я наполнил их фаршем, завернул фольгой, отправил в духовку. Когда они лежали в тепле, щупальце холодного времени, психическая грусть - ушли. Я с аппетитом поел.
На следующий день, едва я встал, мысль о хорошей фаршировке была тут как тут. Голубцы, решил я и пошел в магазин. Там я купил полкило фарша говяжьего. Потом, уже на улице, вознамерился купить капусты. Мой друг, продавец, как раз был недалеко. Я встал в очередь. Передо мной группа мужиков покупала дыню. "Слышь, чувак, - сказали они продавцу, - а правда, что все армяне - пидарасы?"
- Святая правда, - сказал продавец.
- И что? В смысле, сосут друг у друга по утрам, да?
- Естественно, - подтвердил продавец.
Мужики ушли.
- Здрасте, Степан Макарыч, - сказал я продавцу. - Зря вы пейсы отпустили, все за армяна принимают.
- А мне что? Мне, грузину, даже приятны подобные разговоры, - возразил Степан Макарыч.
- Да?.. Ну, мне капусточки бы...
- Это сделаем!
Я решил готовить по-украински. Я сварил капусту целиком, отсоединил листы, слегка отбил черешки, завернул в листы предварительно заготовленный мясной фарш, соединенный с полуготовым рисом, зеленью, специями, салом, чесноком тертым, обжарил немного и отправил жить в духовку. Сел и закурил. Позвонил друг, сказал, что он умер. "Зря", - решил я. Мне стало жалко. Не его, конечно, а себя, оставшегося без друга. Но грусть прошла. Я заглянул в духовку, где потели в утятнике мои малыши, и легче стало. Я решил зайти к соседке. И зашел.
- Привет, соседка!!
- Привет. Ты чего это припиздячил?
- Да так. Голубцов хочешь?
- Хочу.
И я принес ей моих готовых вкусных друзей.
- А ты мастер. Хороший редукт сотворил.
- Ага, - обрадовался я. - Старался.
- Молодчик. А мой васек токо и знает, что водку жрать. Говорит, душа болит, - пожаловалась соседка. Она приоткрыла дверь в одну из комнат (мы беседовали на пороге ее квартиры) и сказала сидевшему там очередному ваську:
- Слышь! Что наш сосед сделал! ГО-ЛУ-БЦЫ!
- Ма-ла-дец, - сказал васек и помахал мне рукой. Вяло.
Уходя, я сказал соседке:
- Он бы нафаршировал что-нибудь, сразу бы повеселел.
- Он только меня фарширует. Правда, все реже и реже, - сказала соседка и посмотрела на меня со значением.
Я сделал вид, что не понял ее взгляда, и удалился. Когда я пришел к себе, голубцы уже остыли, но я съел их и так. Главное - процесс, думал я.
Весь следующий день я пил коньяк и фаршировкой не занимался. Поэтому в четверг я был грустен сверх всякой меры. Я грустил об отсутствии в жизни интереса, я скучал, печалился из-за своего поколения, которое, по моему представлению, было готово сосать за хорошую еду у кого угодно. Я думал о своей исключительности и своем, следственно, одиночестве. Потом я подумал о попке Кати Васильевой, что наблюдал на прошлой неделе в биллиардной, и о том, что никогда не буду трогать эту попу нежно и по-хозяйски, не буду ей обладать. Я подумал о том, что надобно всех коррупционеров поджарить... потушить... сварить... Потом я подумал: "Стоп!!!" Сварить! Нафаршировать! Кныдли! И я побежал к Макарычу за сливами (картошка всегда есть в моем доме, откуда, не знаю). Макарыч был одет в белое кимоно и платок, какие носят арабы.
- Здоров Макарыч! Че так вырядился, - спросил я.
- Так мои родители же наполовину китайцы. Оба. Или обе...
- А платок зачем?
- Так они же на другую половину - арабы. Обе, то есть оба, - терпеливо объяснил Макарыч. - А сегодня их день рожденья. А я чту своих родителей.
- ААА. Мне слив, немного, для кныдликов.
- Хорошо.
Так я пообщался со Степаном Макарычем. Прибежал домой и засел за терку картошки. Долго ли, коротко ли, зафаршировал шарики картошки кныдликами и сварил. Но есть не стал, так как был не голоден. Зато стал доволен но чем, не знал. Хотя счастье - момент неосознанного. А осознанное счастье - суть счастье по необходимости, по некоему социальному негласному договору, все должны быть счастливы. Моя вчерашняя незнакомка счастлива, хоть ее насилует отец, а мой пьяный друг счастлив, хотя и нет денег на водку.
Пятница вошла в мою жизнь точно по расписанию - в ноль часов и ноль минут. "Здравствуй", - сказала пятница. "Привет", - сказал я и заснул. Утро я начал с того, что посмотрел в потолок. Потолок никуда не съехал. Потом я выкинул холодные вчерашние кныдлики и плюнул с балкона. Попал в свою соседку. "Это что, приглашение потрахаться?", - спросила она. "Нет, это я случайно, я еще сплю, я лунатик". "Так луны же нет", - возразила соседка. "Ты что?! Ты лунатиков за мудаков держишь? Нет луны - не беда. И солнце сойдет. Что же делать, ежели луны нет?" - недовольно бормоча, я удалился. Потом пошел гулять. Гулял-гулял. И надоело. Сел на скамейку (в парке) и стал смотреть на прохожих. Сколько все-таки уродов! Ужас. Одни ублюдки по улицам ходят. Страшные, заебанные, а главное - с пустыми, абсолютно пустыми глазами. Я пошел домой и остервенело нафаршировал двух судаков их же мякотью, овощами, припущенными на сковородке, маслинами. Добавлен в фарш был также и лимонный соус. Прежде чем судак дошел до кондиции в духовке, я выбросил его в окно. Потом подумал и выбросил туда же телевизор. Потом сел и закурил. Пошел в магазин за щукой. Оной там не оказалось. Пришлось нафаршировать шпроты. Я аккуратно стянул с каждой шпротины кожу, смешал мякоть с хлебным мякишем, луком жареным, яйцами, маслом, добавил перца и кореньев. Положил нафаршированных рыбчат в бульон, поставил в духовку. Пока они были там, сделал себе яичницу и поел. Потом достал рыбок, выложил на блюдо, подал к столу с коричневым соусом с корицей. Потом спустил все это в унитаз. Шпроты, поди, поплыли на Балтику. Потом я еще покурил и заснул. Не раздеваясь.
Суббота - день отдыха евреев и их бога - ласково погладила меня по голове солнечным лучом и попросила встать. Я встал. Пришла соседка и попросила подписать петицию. "Лады", - сказал я и подписал. Делать было нечего. Может, рассказ написать? Я когда-то писал. Для школьной газеты. Я сел и написал:
Внутренний рассказ
"Город был мрачен и стар, а воздух тяжел. Воздух состоял из отдельных дышательных шариков, которые надо было ловить, подпрыгивая. Все только этим и занимались, больше ни на что не оставалось времени. Спали по очереди. Пока один спал, другой совал ему в нос шарики. Воздуха становилось все меньше и меньше, он мерз и сгустками божьей крови падал на землю. Его пытались грызть. Никто не рожал детей. Никто не работал. Никто не ел. Через пять дней все умерли. Все, кроме маленькой девочки, которая лежала в своей кровати и спала. Когда она проснулась, она включила свет. Включила свет. И пошла гулять меж трупов. Чуть позже она впустила в город новых жителей. И вот однажды...".
Продолжение рассказа о Фаршированном перце
Дальше писать расхотелось. Я подошел к окну. "Почему я не умею летать? Или умею, но не знаю об этом?". Я представил, как падаю из окна и ощущаю нечто неощутимое, я разбиваюсь, как телевизор давеча. Тяжело думать о смерти, когда суббота и светит солнце, и у тебя есть деньги. Я закрыл шторы, закурил, положил в пепельницу деньги и сжег их. Жаль, с субботой я ничего не мог поделать. Я стал думать о смерти. Думал, думал и придумал:
Внутренний рассказ №2
"Итак, смерть - это то, что каждый испытывает, если, конечно, он не вампир. Вампиры тоже умирают, но редко. Смерть приходит, когда ее не ждут, и уходит, положив тебя в ящик, повесив на тебя бирку с номером. Смерть не приходит, когда ты ее ждешь, в это время она занята с другим. Вообще смерть - это не физиологический процесс. Это некое ОНО, и оно (туфта, в смысле туфта-логия) живет в тебе с рождения, как болезнь. Как опухоль. Я знаю несколько людей, которые никогда не умирали, но они никогда не подтвердят это официально. А если я не хочу умирать (а я не хочу), то что же мне делать? Может, если не хочу, то и не умру? Возможно, то, что называется "смертью", есть земное выражение страшного суда. Или НЕстрашного суда (такой тоже бывает, смотря какой судья ведет твое дело: вечный или не вечный. Если не вечный, считай, тебе повезло)".
Продолжение рассказа о Фаршированном перце
Тут я бросился на кухню, фаршировать картошку. Она опять у меня имелась. Так я провел два часа без мыслей о себе, о смерти и обо всех тех уродах, что меня окружают. Когда картошка была готова, я плюнул на нее (для добавления соляной кислоты) и пошел танцевать под дождем нагишом. Ко мне присоединилась соседка, ее новый васек, а чуть позже и наши ангелы-хранители. Они так смешно танцуют, эти хранители. Все время пытаются взлететь. "Хорошим днем оказалась суббота", - вот с какой мыслью я заснул.
А воскресение попыталось было не наступить (видать, на горло собственной песне), но ему не позволили. Я УЖЕ ЗНАЛ, ЧТО СОБИРАЮСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ фаршировать. Перцы. Я пошел за ними. Я шел и думал: "Я, наверное, средний класс. В смысле, что я посередине. Я не имею золотых хором, но и не сплю на вокзале. И мне нужны перцы для среднего класса. Не дорогие, упакованные по три штучки в пакетик. И не бросовые: кривые и гнилые". В магазине не было перцев. В другом тоже. Я пошел к Макарычу.
- Привет, старик, перцы нужны.
- Ты чего, не сезон.
- Мне очень нужны. Как воздух, как девочки, как мрачные мысли.
Макарыч, одетый сегодня в костюм тореадора, лишь пожал плечами.
- Увы. Прости. Не задерживай очередь.
Я поехал на городской рынок, но и там не было перцев. Никто не понимал, что нужно именно сегодня нафаршировать их овощами, даже есть не обязательно. Меж тем в голову лезли мысли. Я пытался защищаться от них купленным и выпитым пивом, порножурналом, отбивался всем своим естеством. День (он же воскресенье) решил кончаться. Я забегал в магазины, на рынки, подбегал к овощным лоткам... Пару раз мне попадались плохие, очень плохие перцы. Третий молдавский сорт. Но их я не мог фаршировать. Это означало предать, изгадить всю идею фаршировки. 19 часов, 20 часов, 21 час... Скоро будет новый день, и я могу не попасть в него. Жизнь пойдет дальше, оставив меня гнить у своей обочины. Я снова прибежал к Макарычу (он уже переоделся в униформу цвета хаки и отдал мне честь при моем приближении). Я упал на колени, в грязь, я плакал, молил:
- Степан Макарыч, родненький, спаси, помоги, ради всех святых, может, завалялся какой перчик, так я ничего не пожалею, уж ты знаешь....
- Твое время прошло, - сказал Степан Макарыч и закрыл свой лоток, закончил на сегодня (навсегда) торговлю. Ушел.
Мне уже были нужны любые перцы, какие угодно, дорогие, дешевые, для элиты, для среднего класса, для пидараса... 22 часа... 23 часа... 23 часа и половина. Я уже дома. Я звоню во все службы, во все магазины, я выхожу на лестничную клетку в поисках перцев (а вдруг?). И курю, курю, курю. Думается:
Внутренний рассказ №3
"Ваше последнее желание? Сигарету. Сигарету? Конечно. Почему бы и нет. Вы что, курите? А. Я тоже, угощайтесь. Вот-вот, сейчас вас и повесят. Мысли-то какие, а? Повесят и повесят. Я уже привык. Не впервой. Да? А сколько раз тебя? Вздергивали? Да бывало, бывало. Докурил? Ну, все. Поехали. Пока. Ага, до свидания".
24 ЧАСА. РОВНО".
Эпилог
"Неинтересно. Ни о чем. Галиматья. Не пойдет, - сказала редактор, поглаживая свою старую пизденку. - Прощайте". Не пойдет? Ну и пошла на хуй.
Остановка
Призраки наполнили лес, нарочито пугая своей бестелесностью. Шорохи, их слабо осознанный иррациональный зов украшал вечер. Кукушка – пернатый побочный продукт времени – изъясняла свои нехитрые мысли. Зверь, то ли бобр, то ли выдра, выйдя на берег, испугался меня. Я сел на поваленное дерево. Взгляд вверх, взгляд вниз, оглядывание сторон, сторон света и себя в центре. Чувствую себя окровавленным омфалом. Сознаю властителем дум, любых, но не своих. Вижу в небе, вижу в земле, вижу в желудке земляного червя, состоящего из маленьких колечек и являющегося этими колечками по сути. Тишина прерывается и снова наступает. Сейчас бы зеркало. Увидеть зеркало. Подловить зеркало на отсутствии своего в нем отражения. Идешь на север, идешь на запад, идешь на северо-запад. Путь туда не близкий. Путь трудный, путь конечный. Набивая трубку, я не понимаю смысла жизни, выбивая трубку, я ничего не знаю о смысле жизни. Куря трубку, я впитываю никотин. Идя вперед, просто иду вперед. Вещи часто именно такие, какими они кажутся, это правильные вещи, эти вещи мне близки, их я беру с полки. Говорят, кто-то умер. Кто-то постоянно умирает. Это свойство Кого-то. Кругом отчетливо пахнет богом, но у меня насморк. Девушка стыдливо признается в своей любви ко мне. Где-то рядом необходим тростник. Из него делают сахар, сахар сладок. Сладость влечет. Призраки обретают форму, беря мужское и соединяя с женским. Призраки подходят ко мне и садятся у моих ног. Я не учитель, я не бог. Просто поваленное дерево - место моего сидения - оно не велико, там нет места призракам. Обретая форму, они становятся со мной.
Сидя у реки (река должна быть непременно), сознавая себя не сознающим, я курю трубку, предполагая вечером закат. Закат холодный, закат красный, закат – как закат солнца. И больше ничего. Трубка тихонько хрипит, указывая на мои слишком поспешные затяжки. Я глажу трубку, успокаивая ее. Сидящие у ног обращаются ко мне, я отвечаю. Крокодил, сотворенный из облака, плывет вверху по своим делам, задевая лапами солнце. Крокодилом быть хорошо – много зубов.
Потерянный, я послал вверх зов, но не получил ответа. Отсутствие ответа – это удар по эсхатологии, смена вектора развития. Сидящие у ног обращаются, я отвечаю, почему вверху никто не даст ответа? Если бы у бога были уши, он бы их давно застудил. Если бы у бога ушей не было, он бы застудил нечто другое. Там холодно – наверху, там тихо. Идти на северо-запад, только туда. А северо-запад, и в этом я точно уверен, в любой стороне.
Путь имеет свойства, я их изучаю. Все мы изучаем свойства, никто не видит пути. Сидящие у ног спрашивают о моллюсках. Моллюски хорошо, их можно жарить, таково их свойство. Мы ищем следствие, мы смотрим свойства, мы очень далеко. Я устал писать, и это признак моего незнания. Самореализация – это объяснение себя другим, это бессмысленно, но приятно. Хорошо просто сидеть, и курить, курить таким образом, чтобы курение было единственной вещью в мире. И так во всем: мир действия полнее, чем мир слов. Можно спросить: «и что?». Спрашивайте. Главное, чтобы вопрос содержал ответ. Бестелесность возобладала в призраках. Как одежду, сняв форму, они, кланяясь, отступали в лес, оставляя меня курящего, держа путь ко мне Пришествующему.